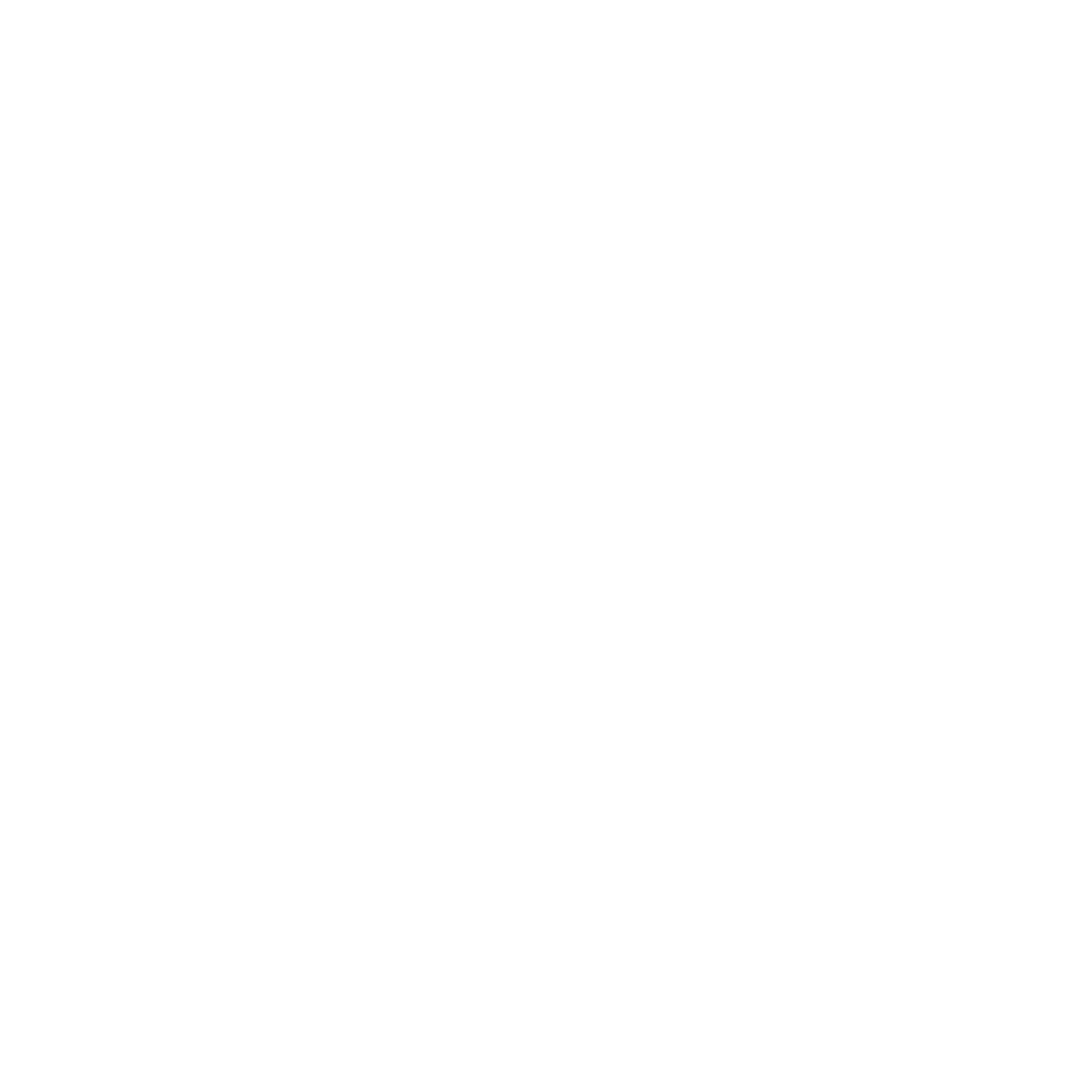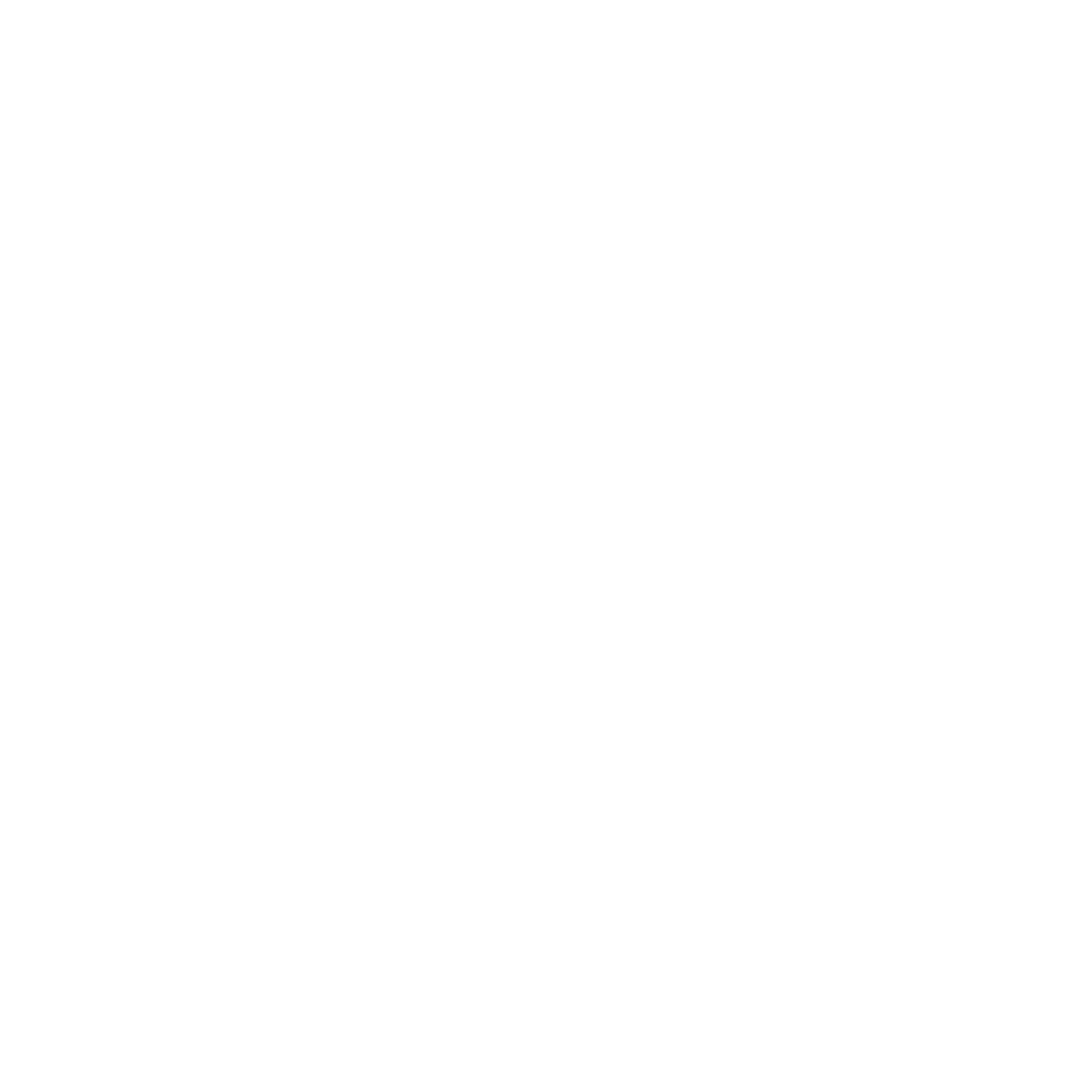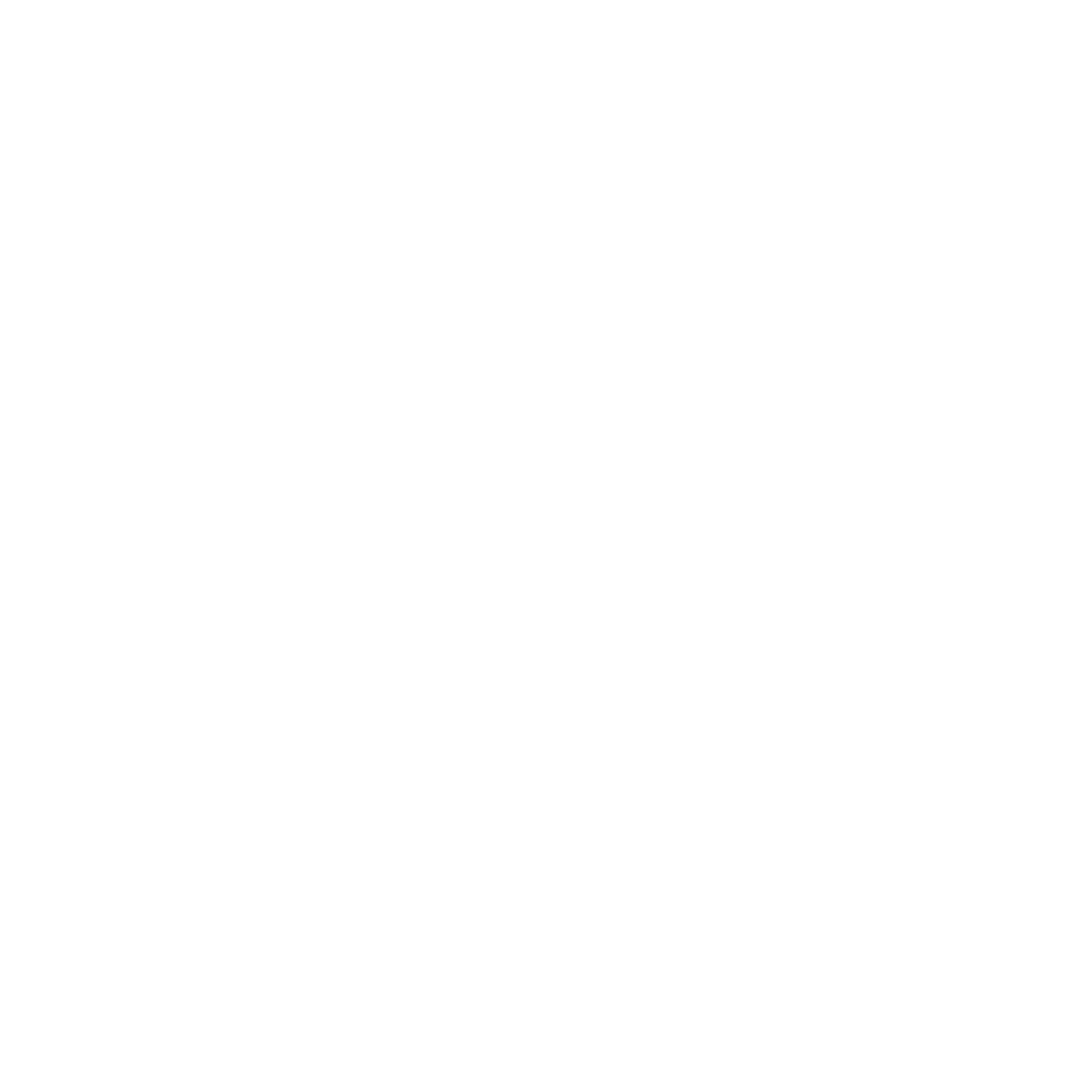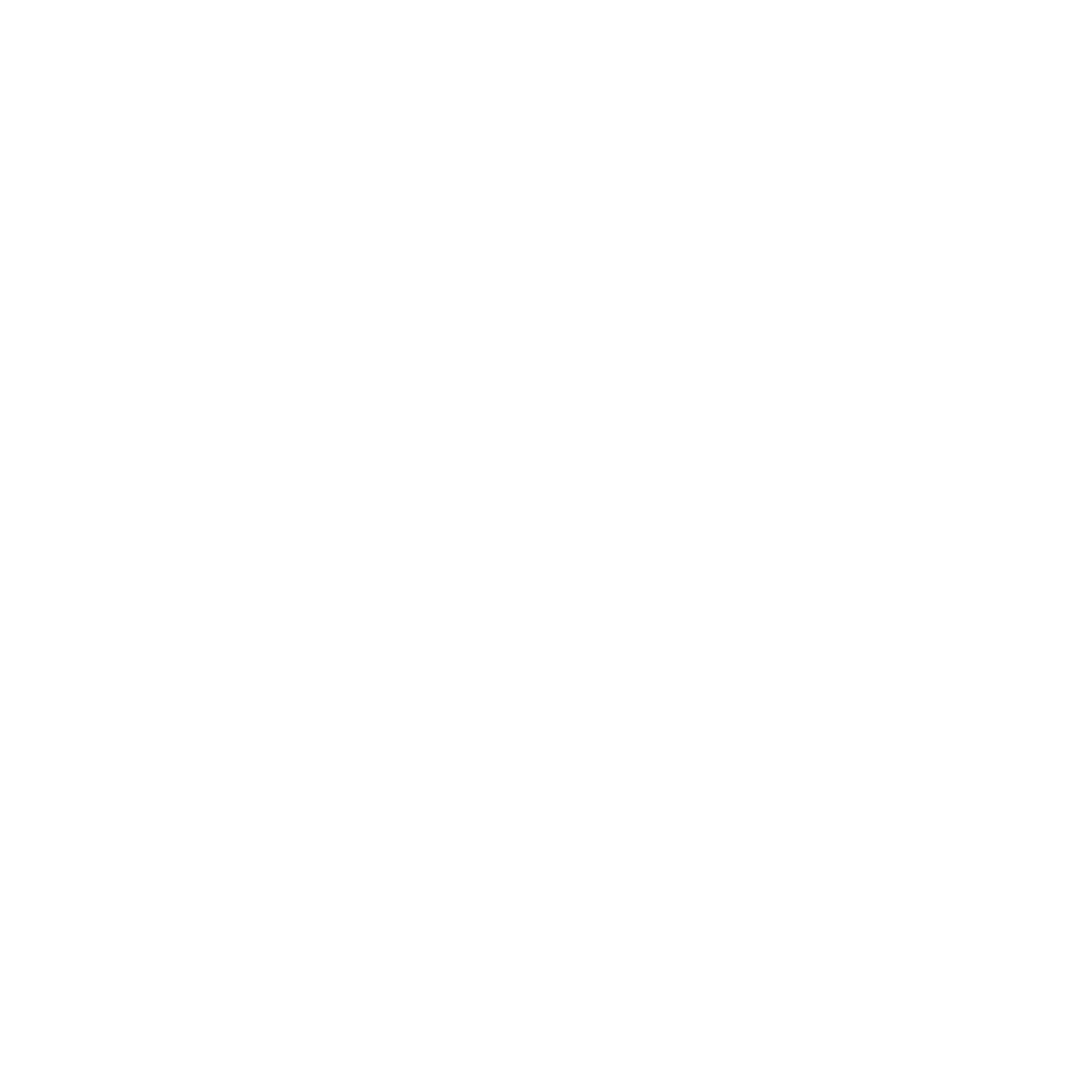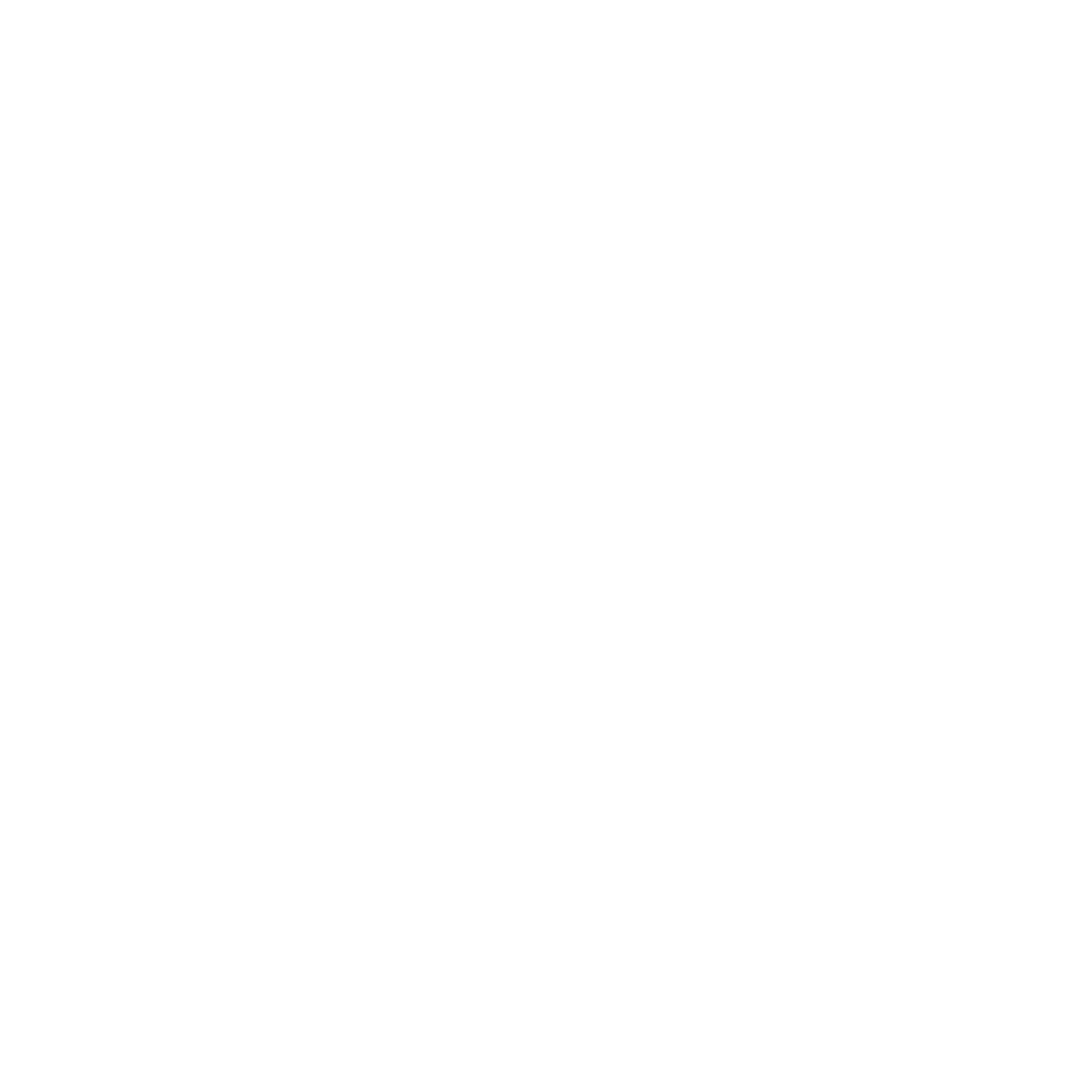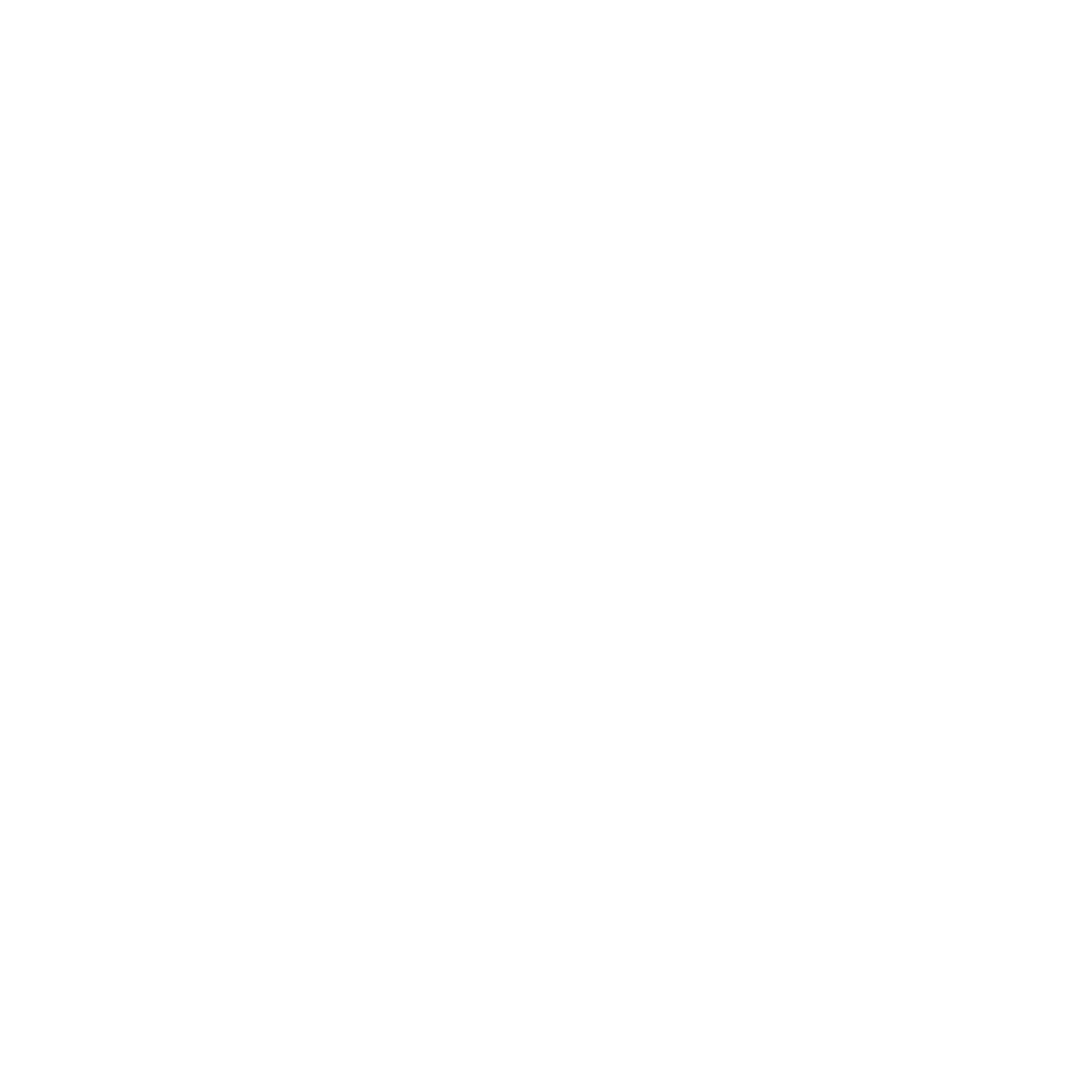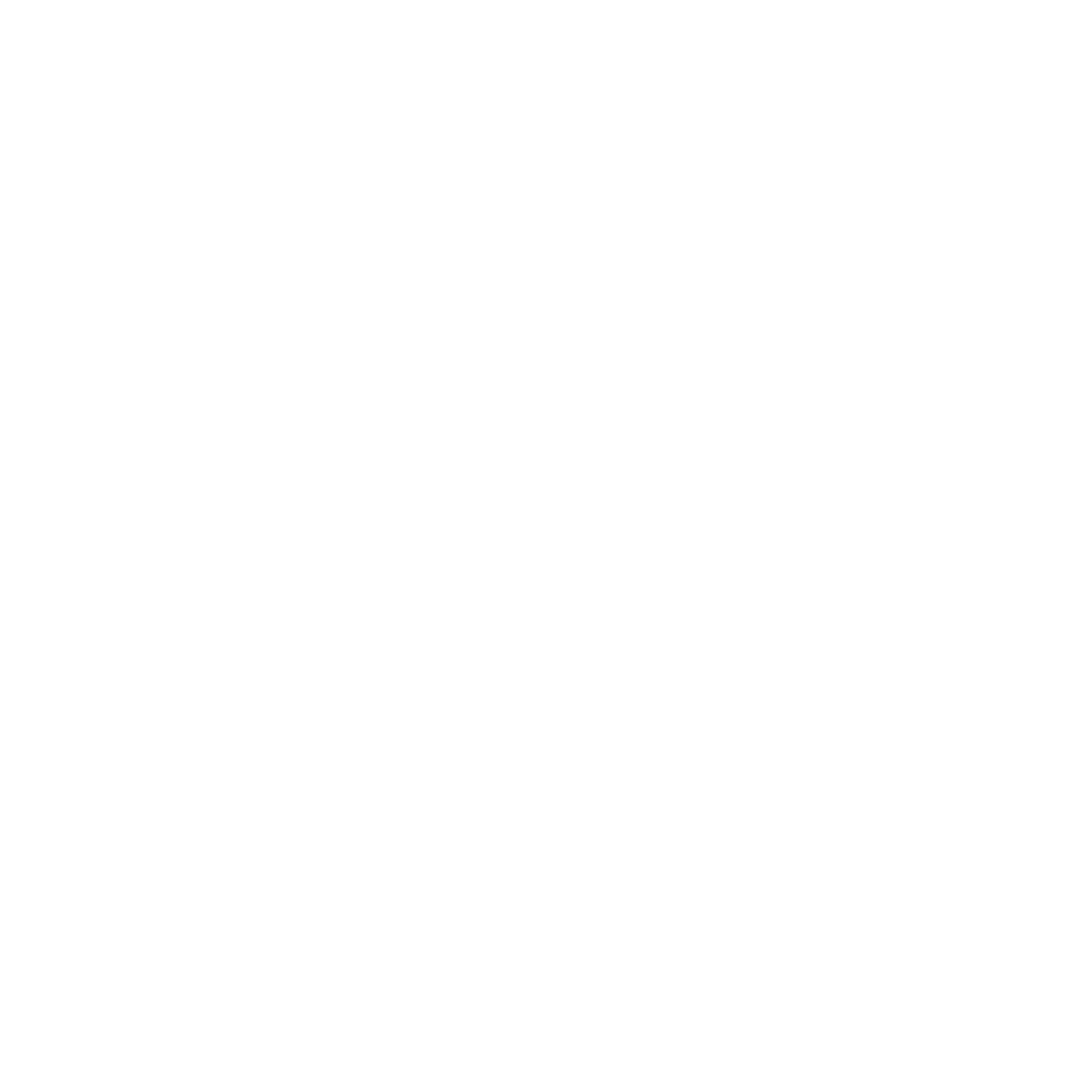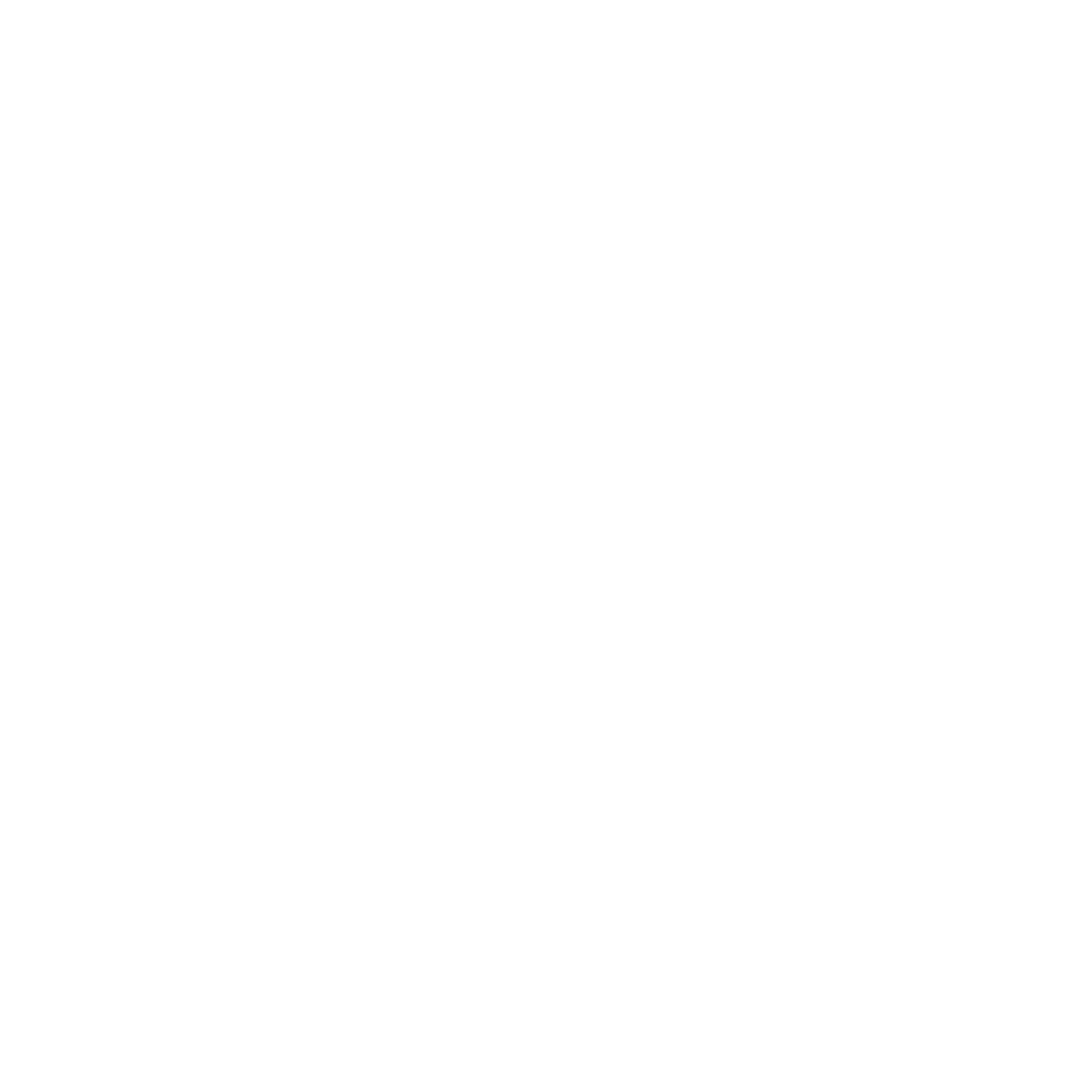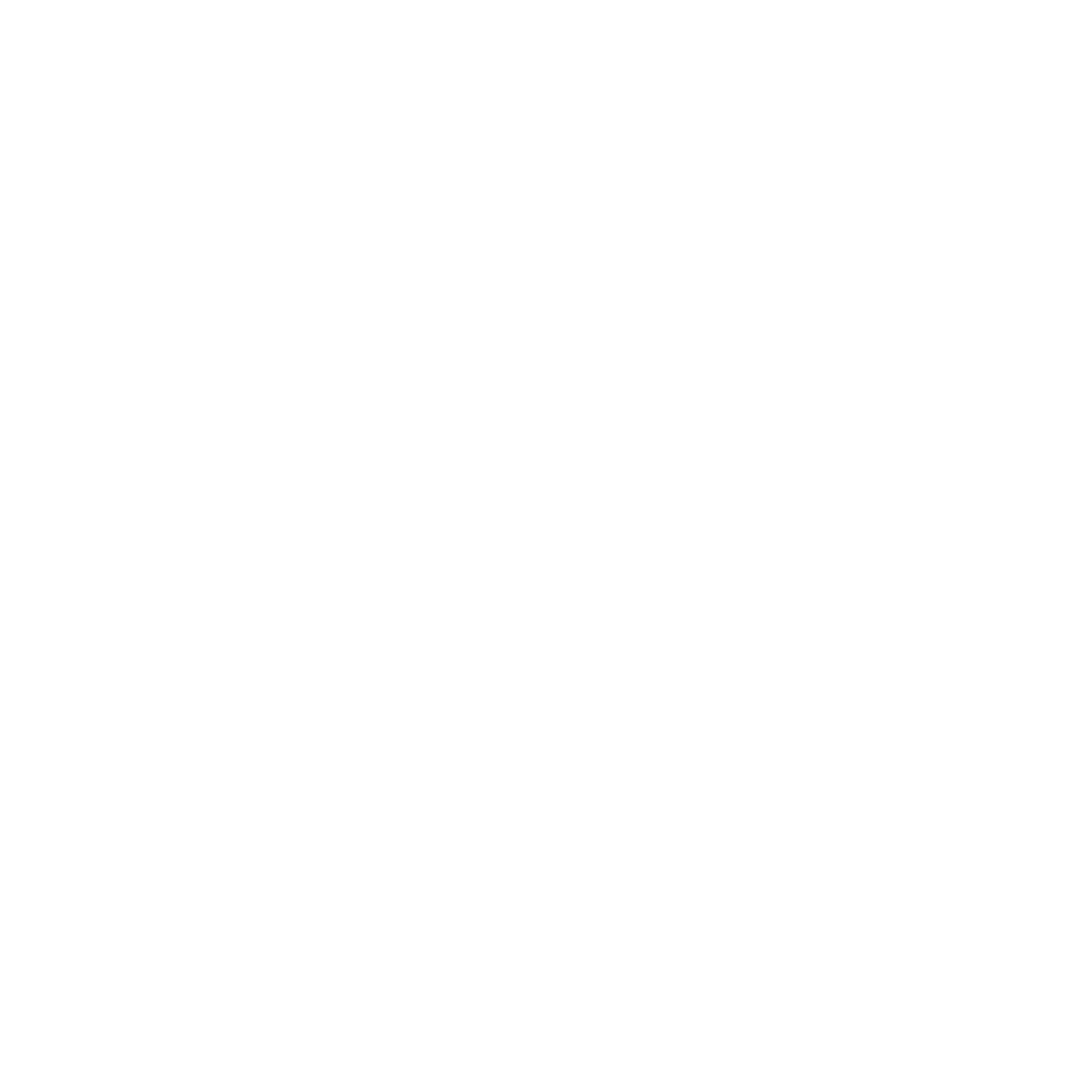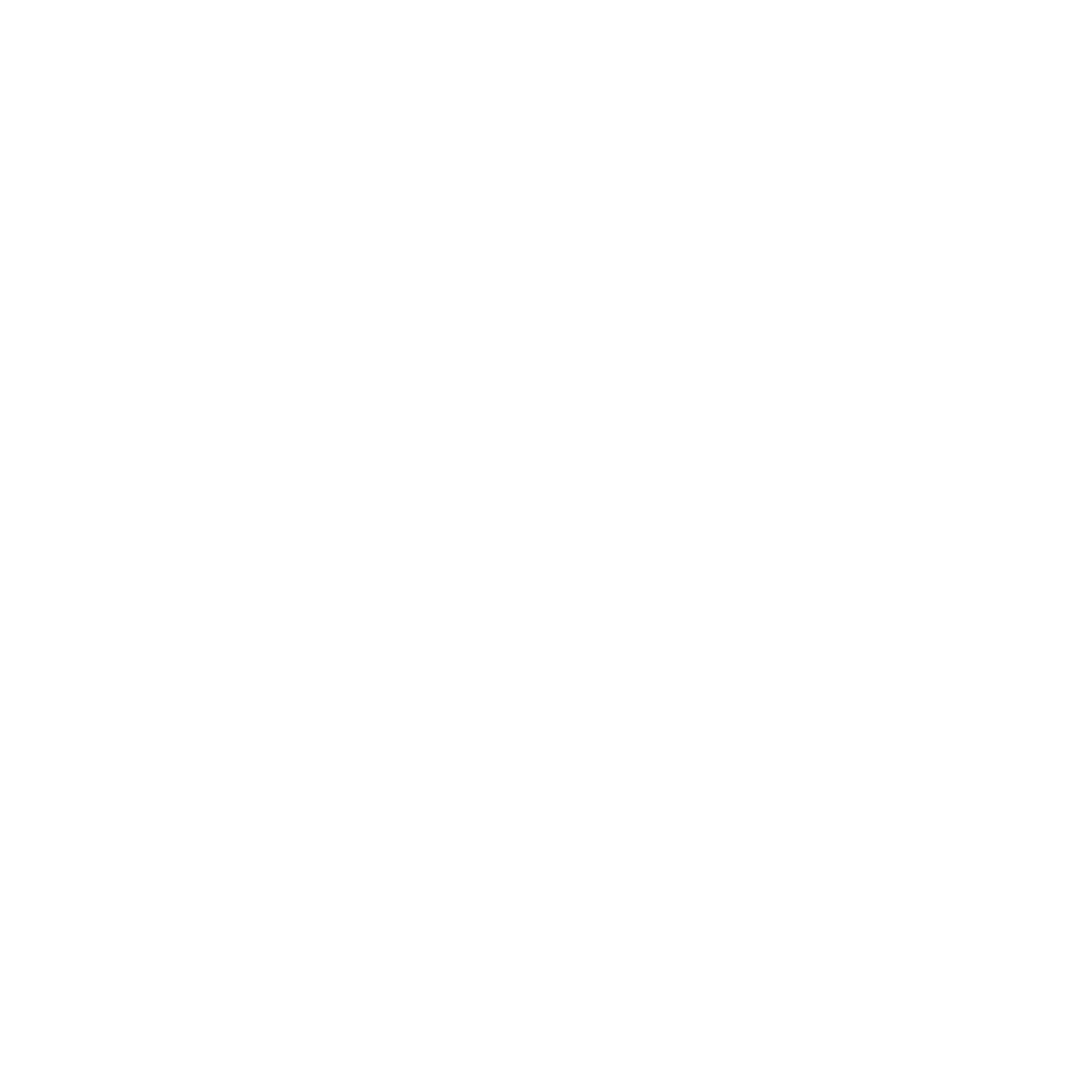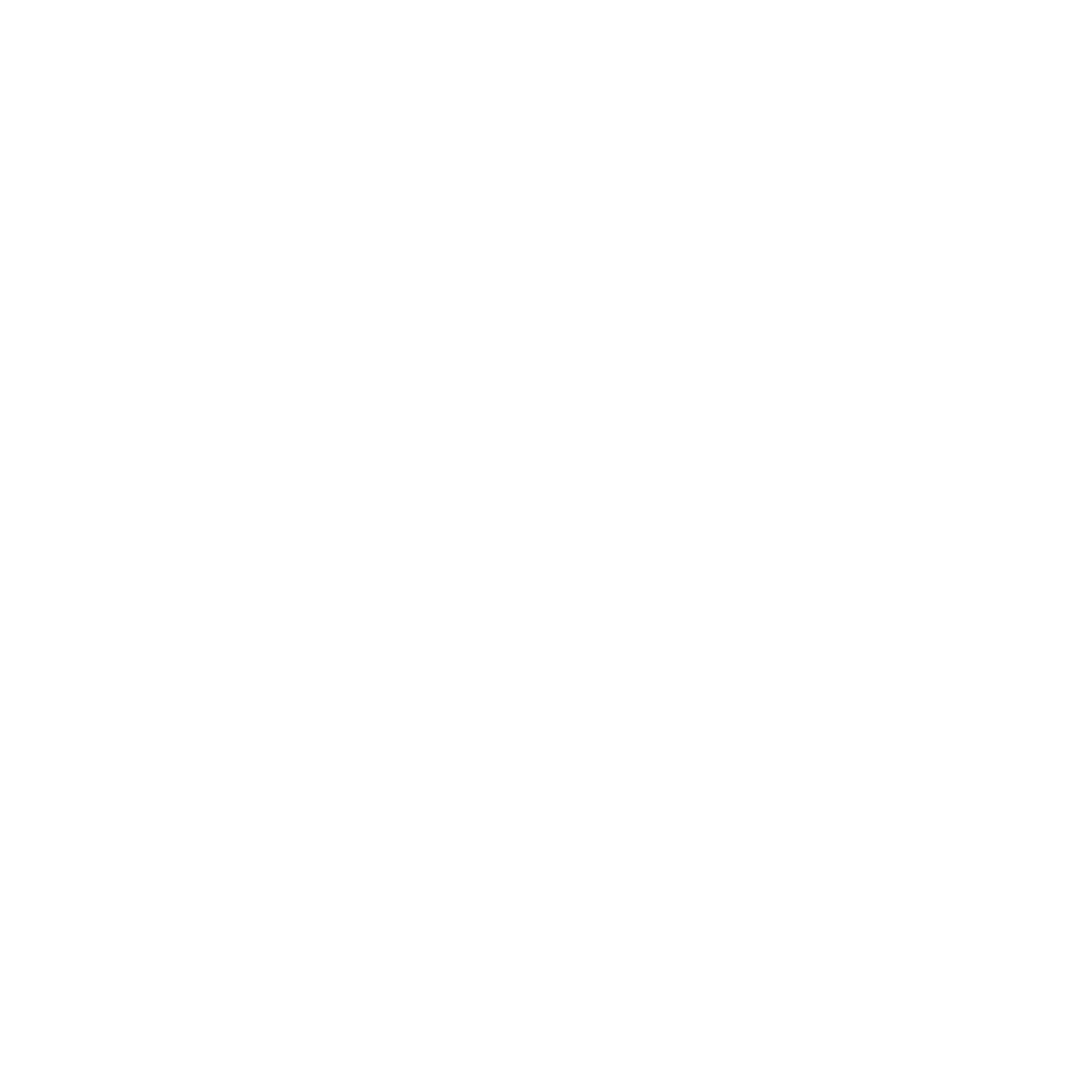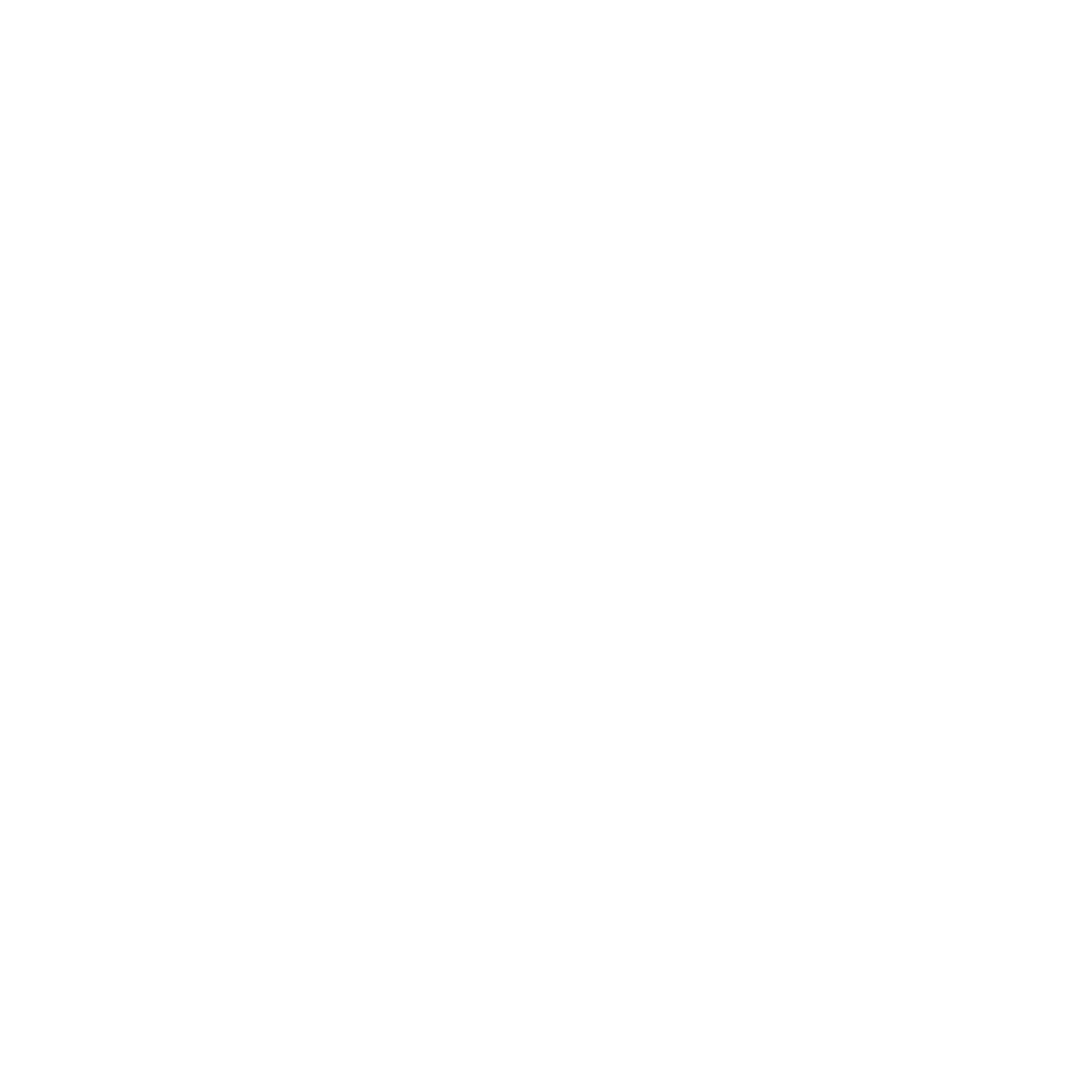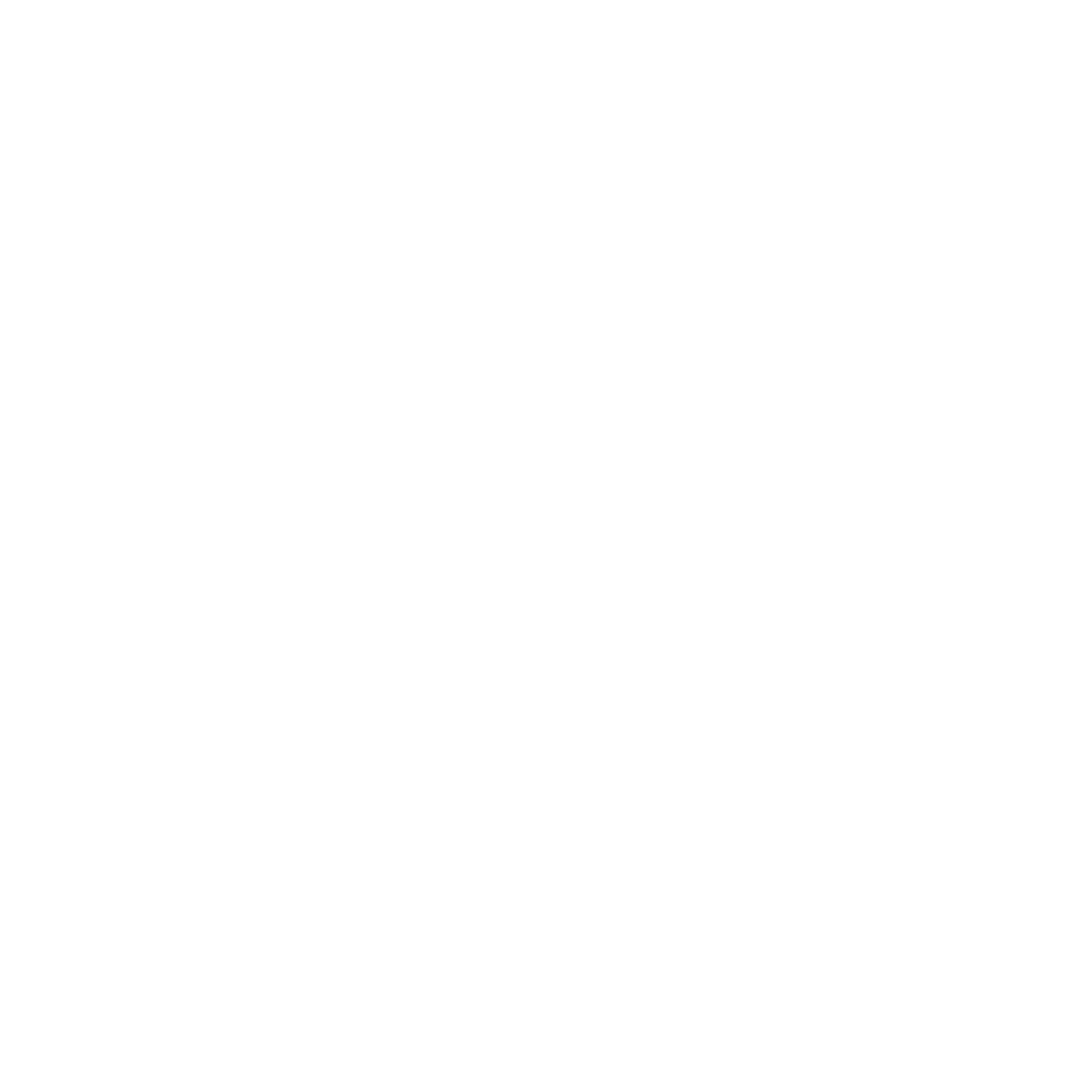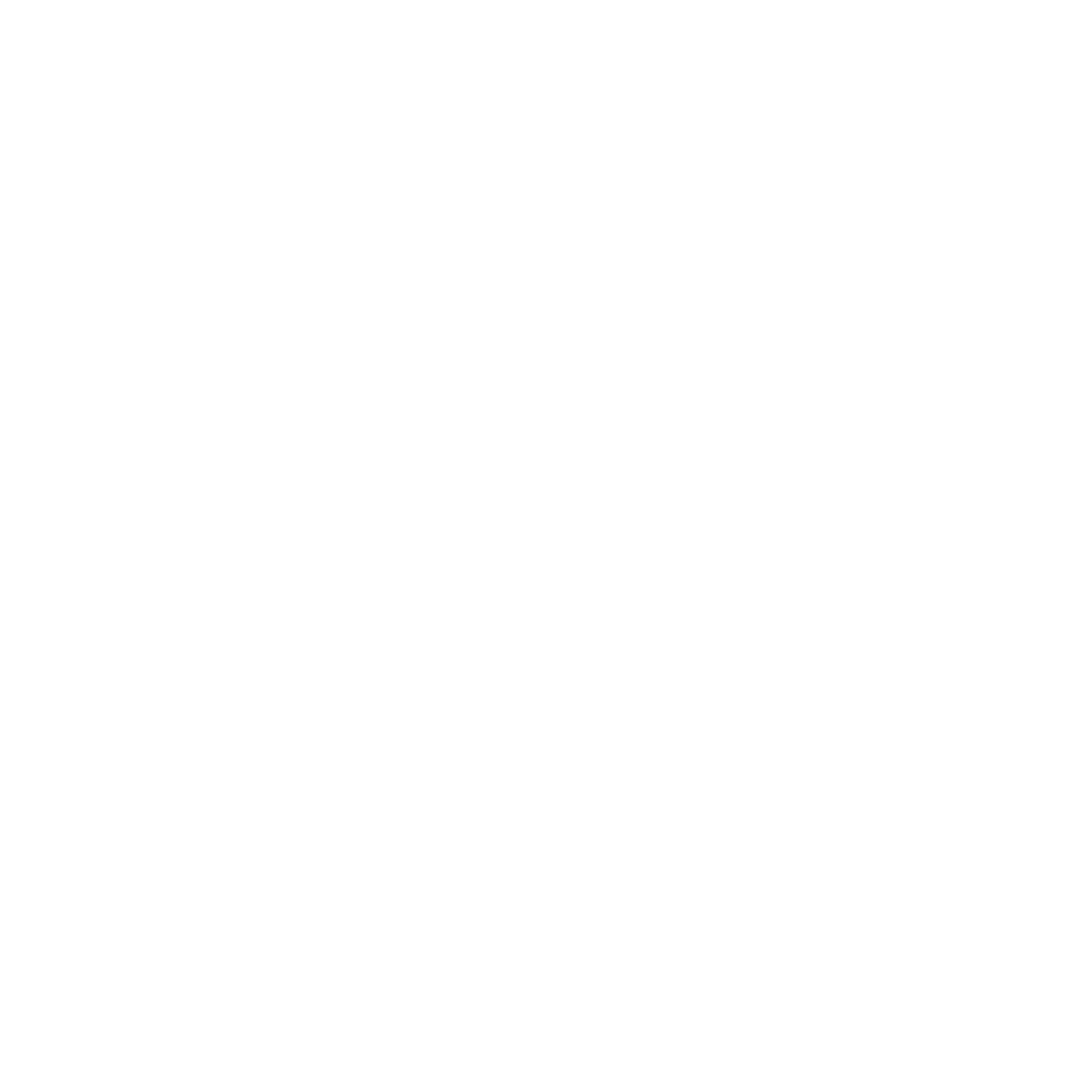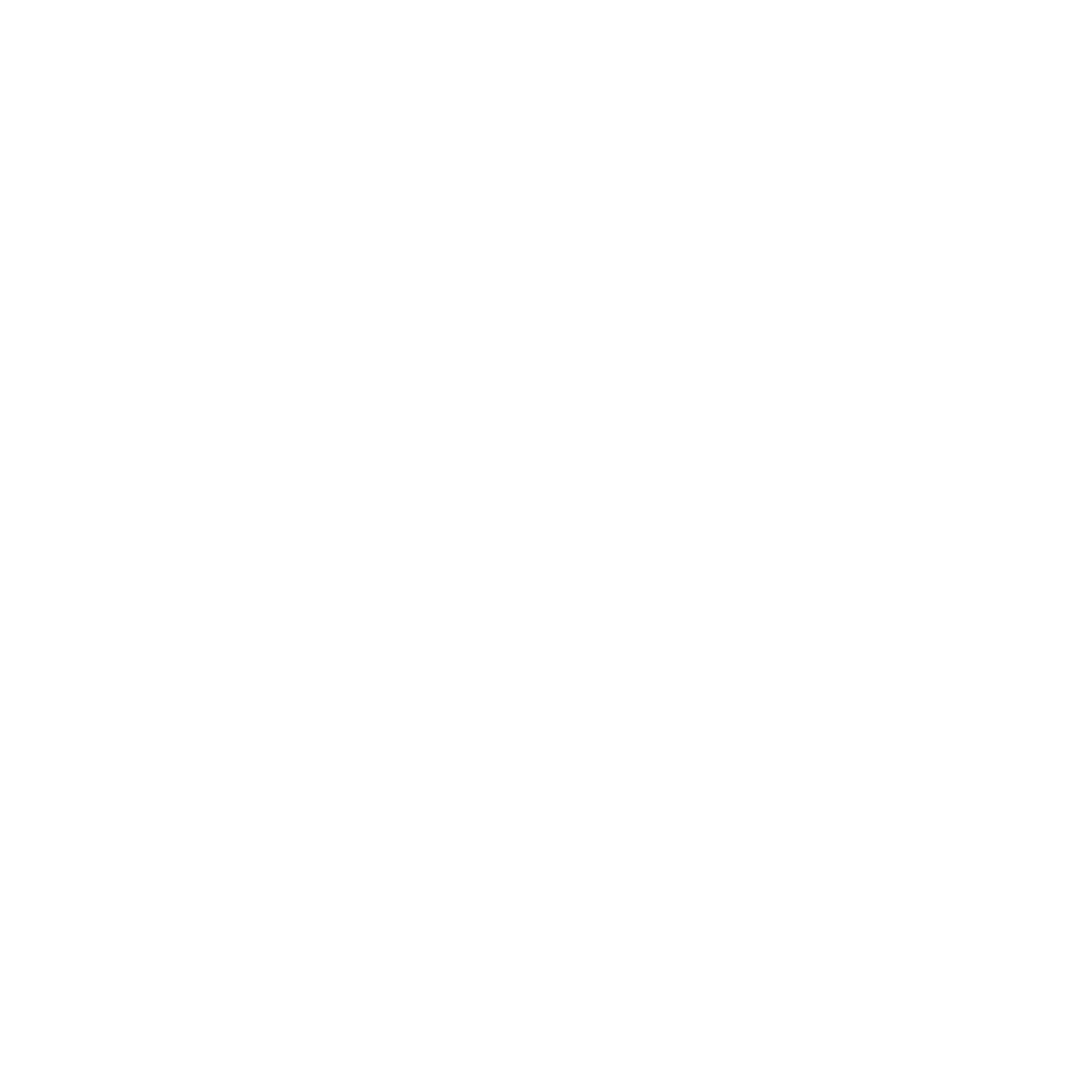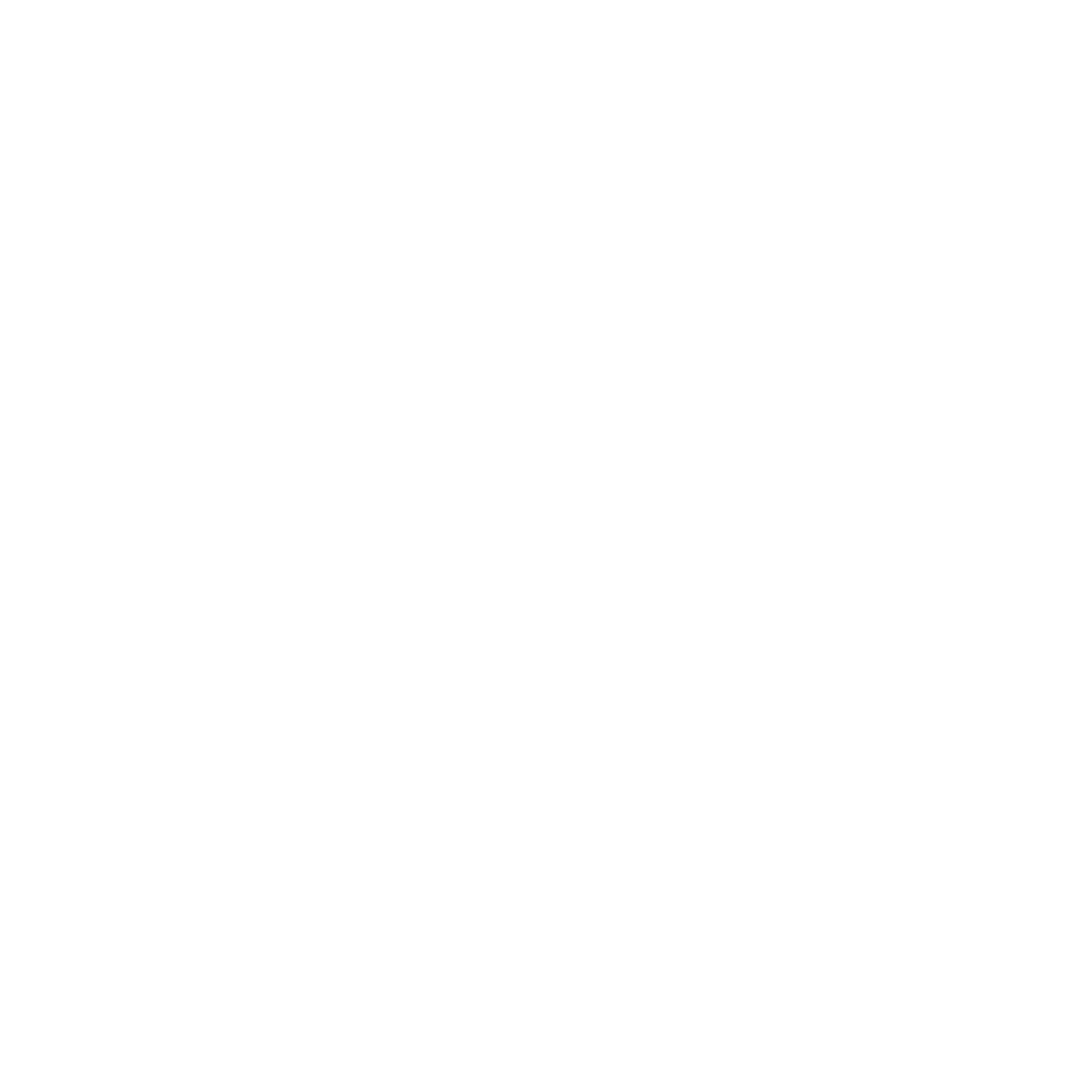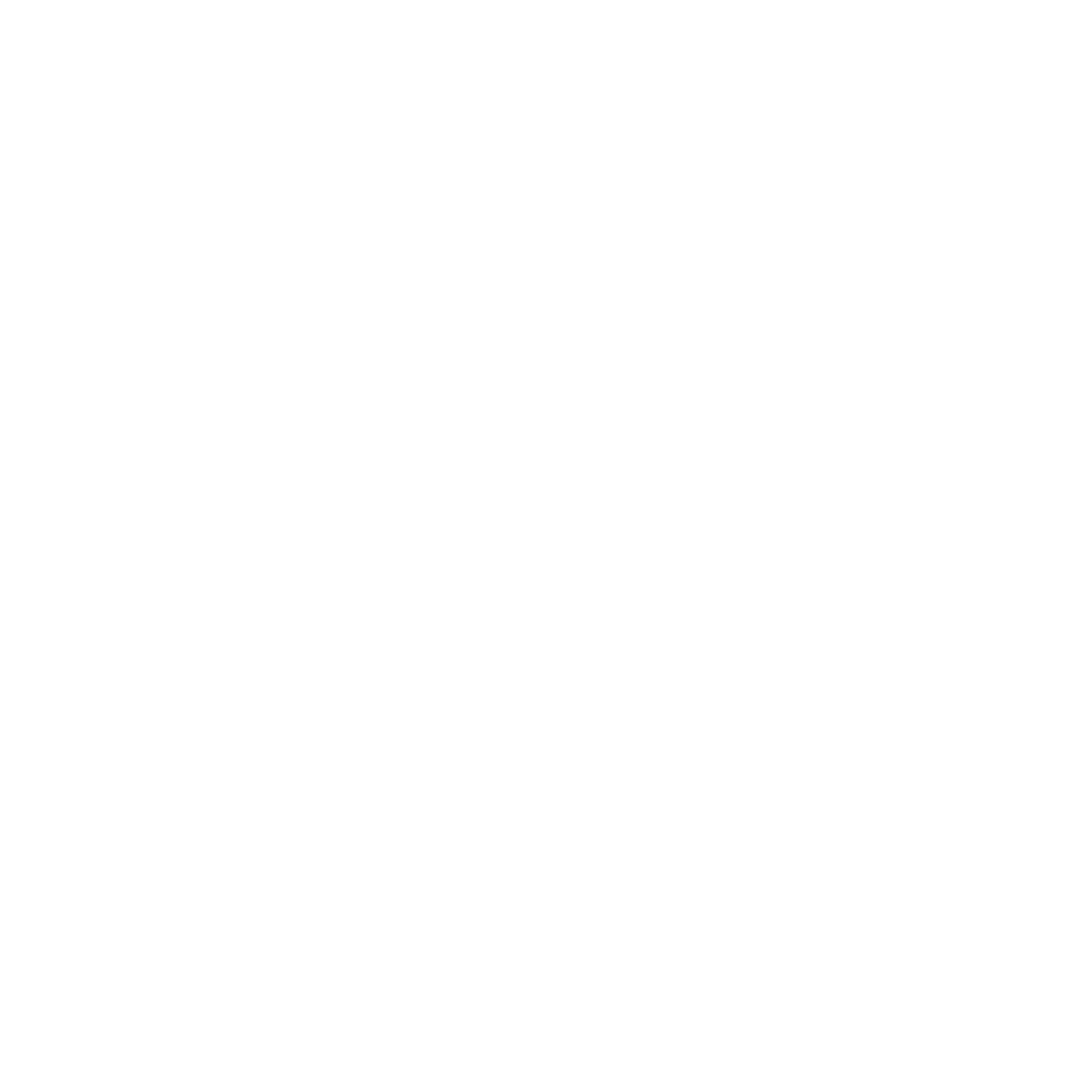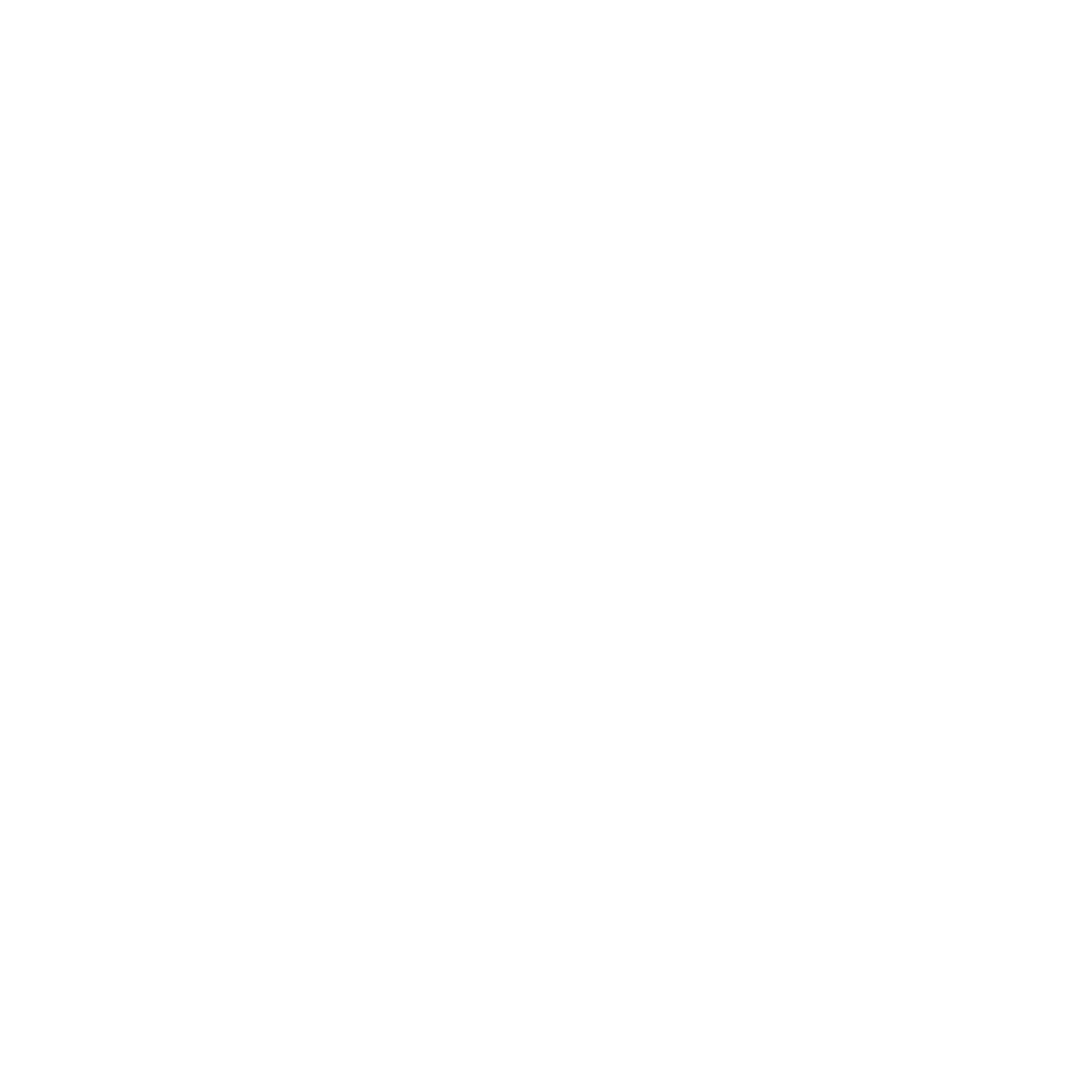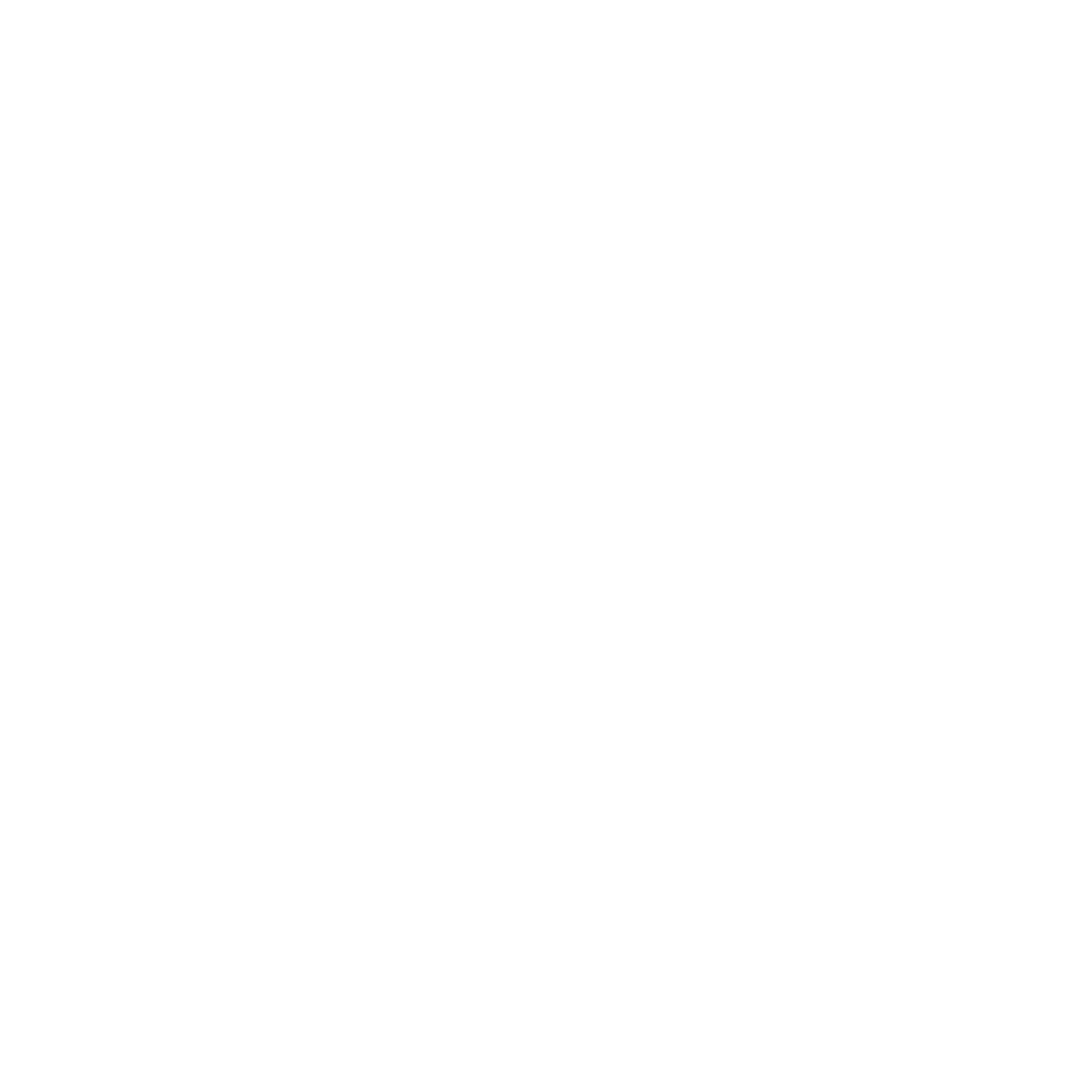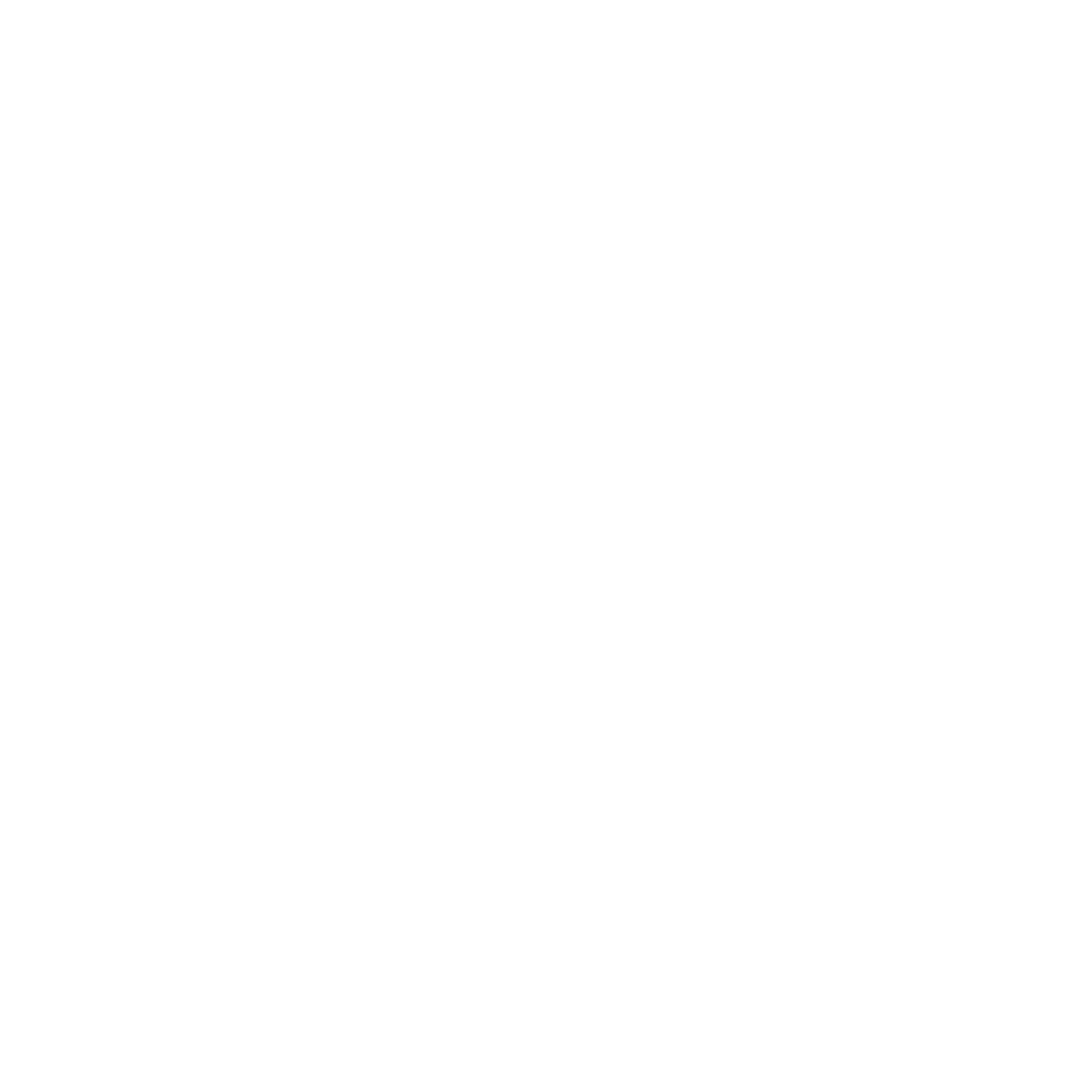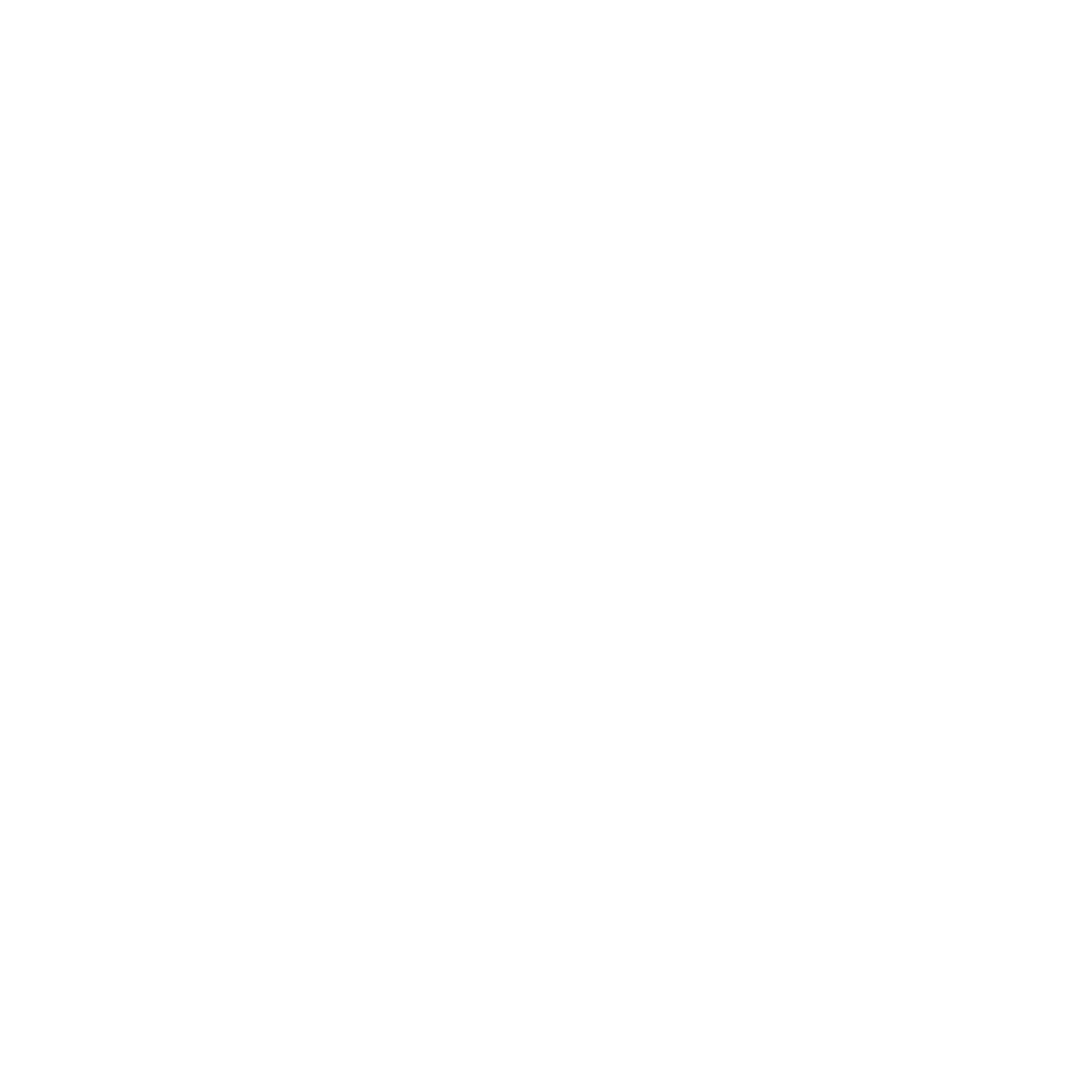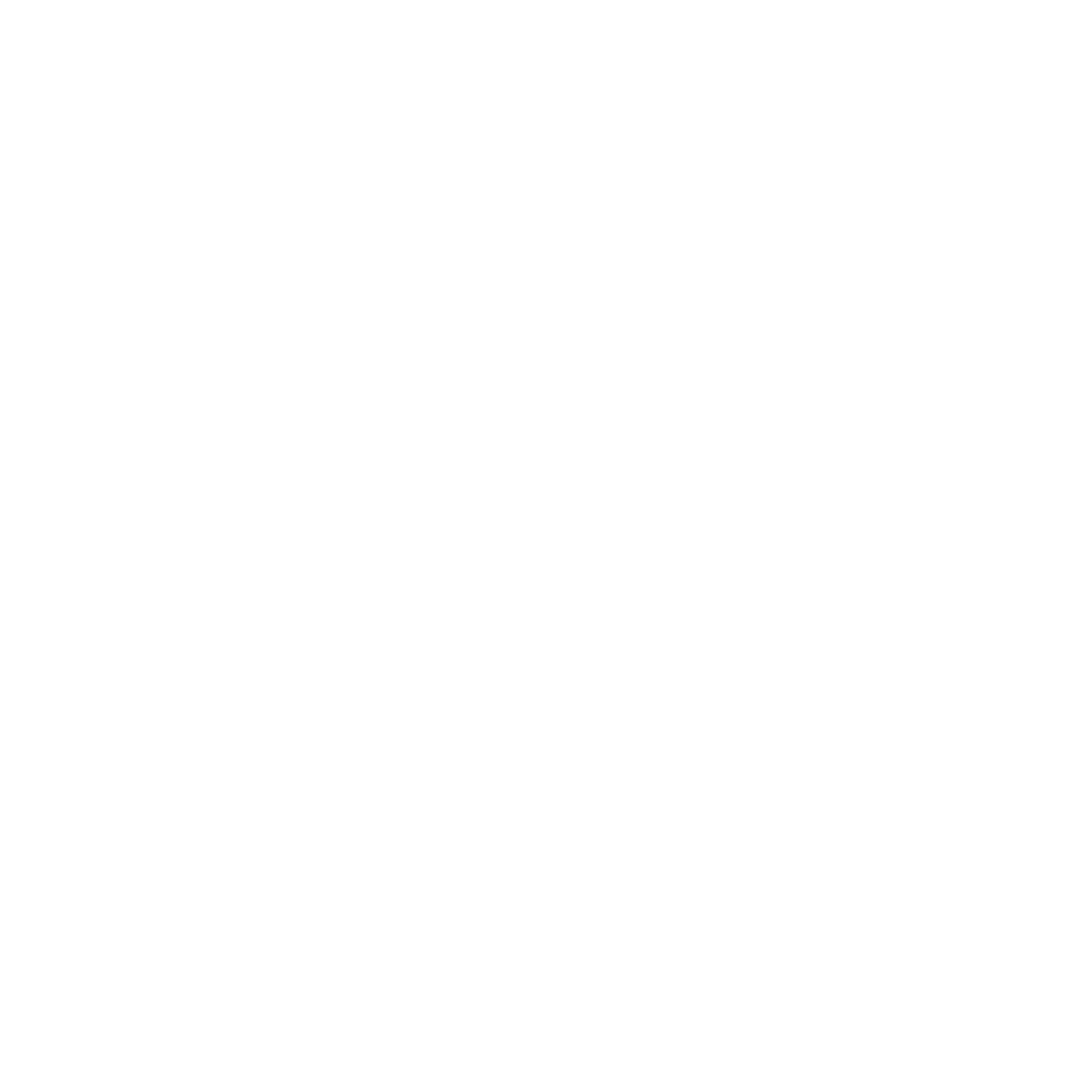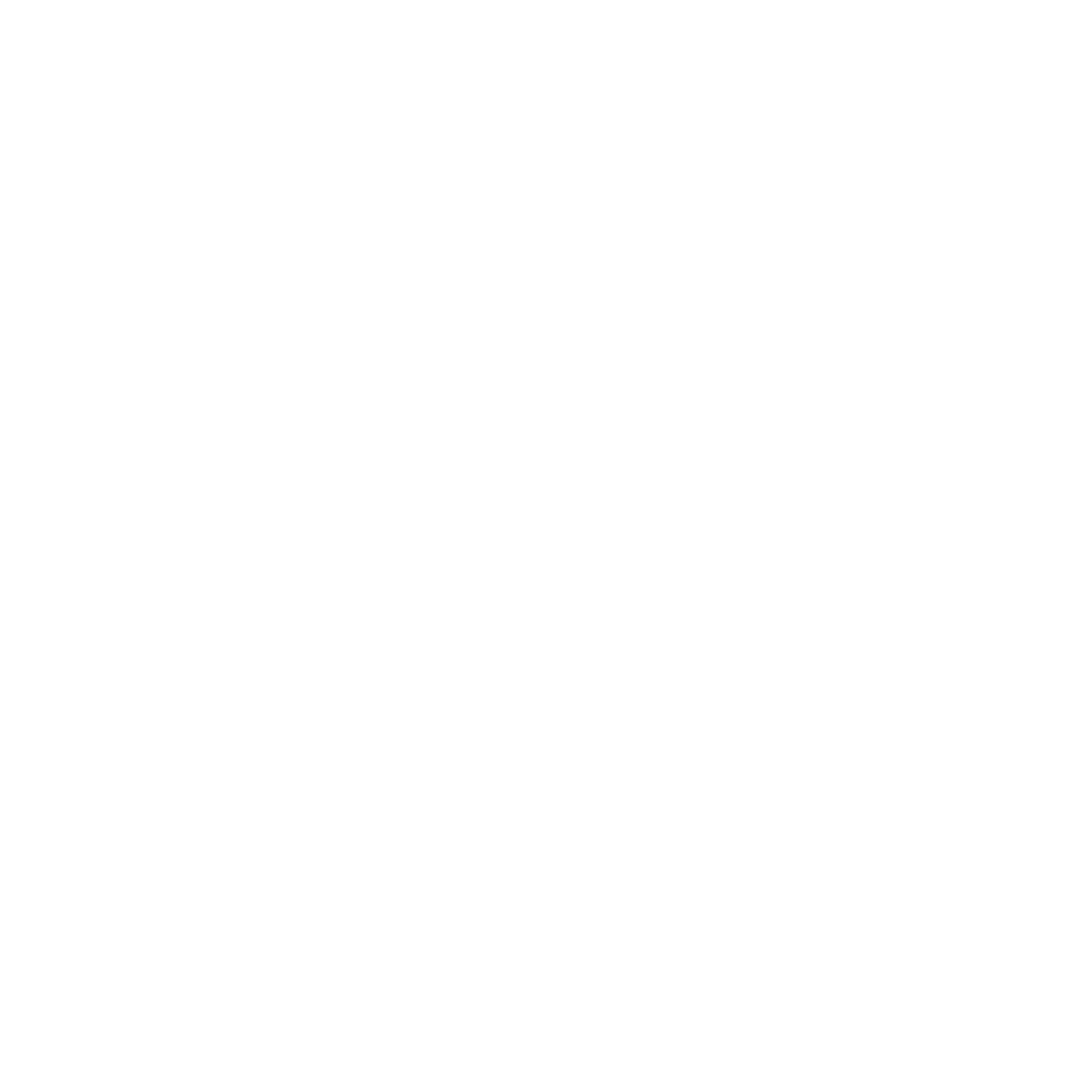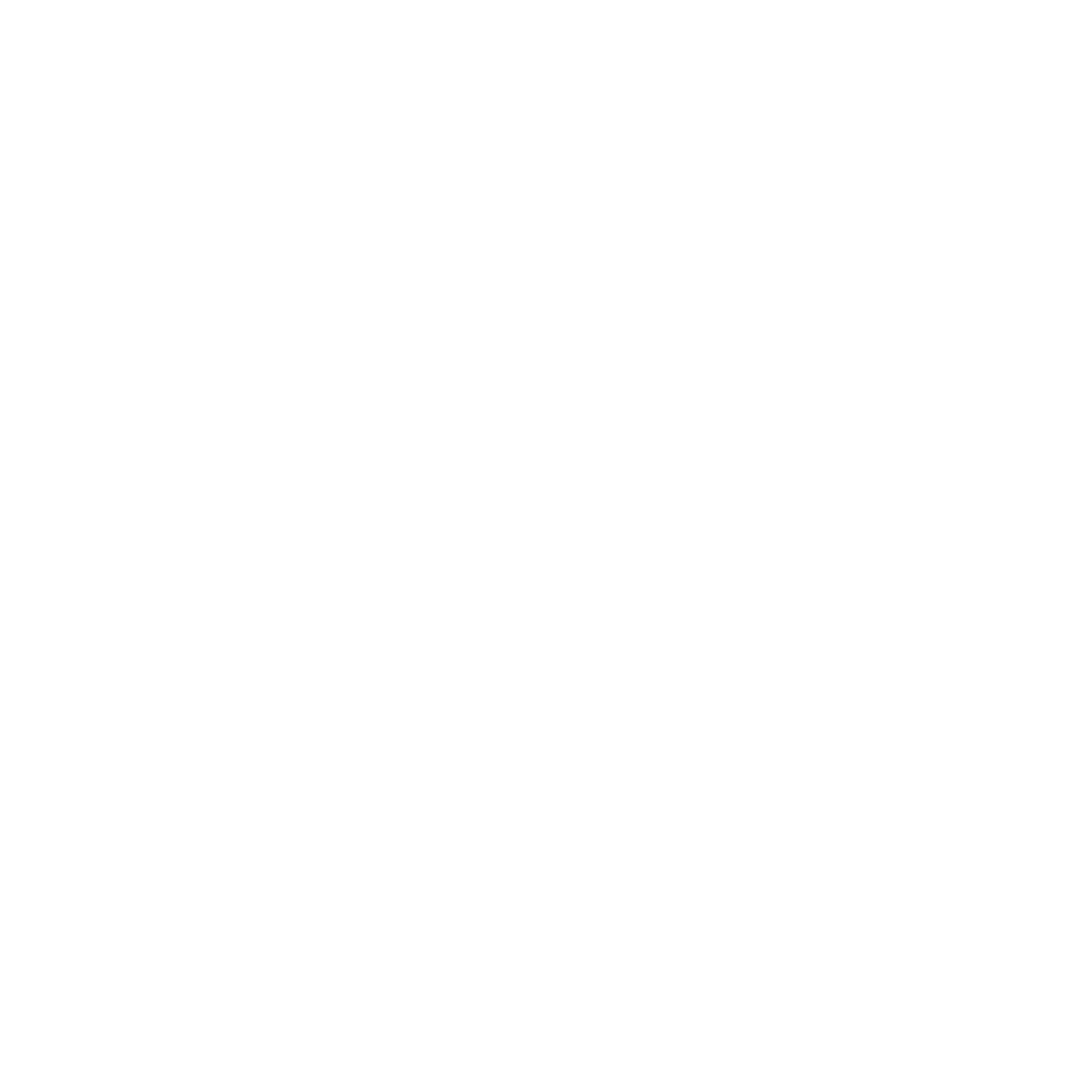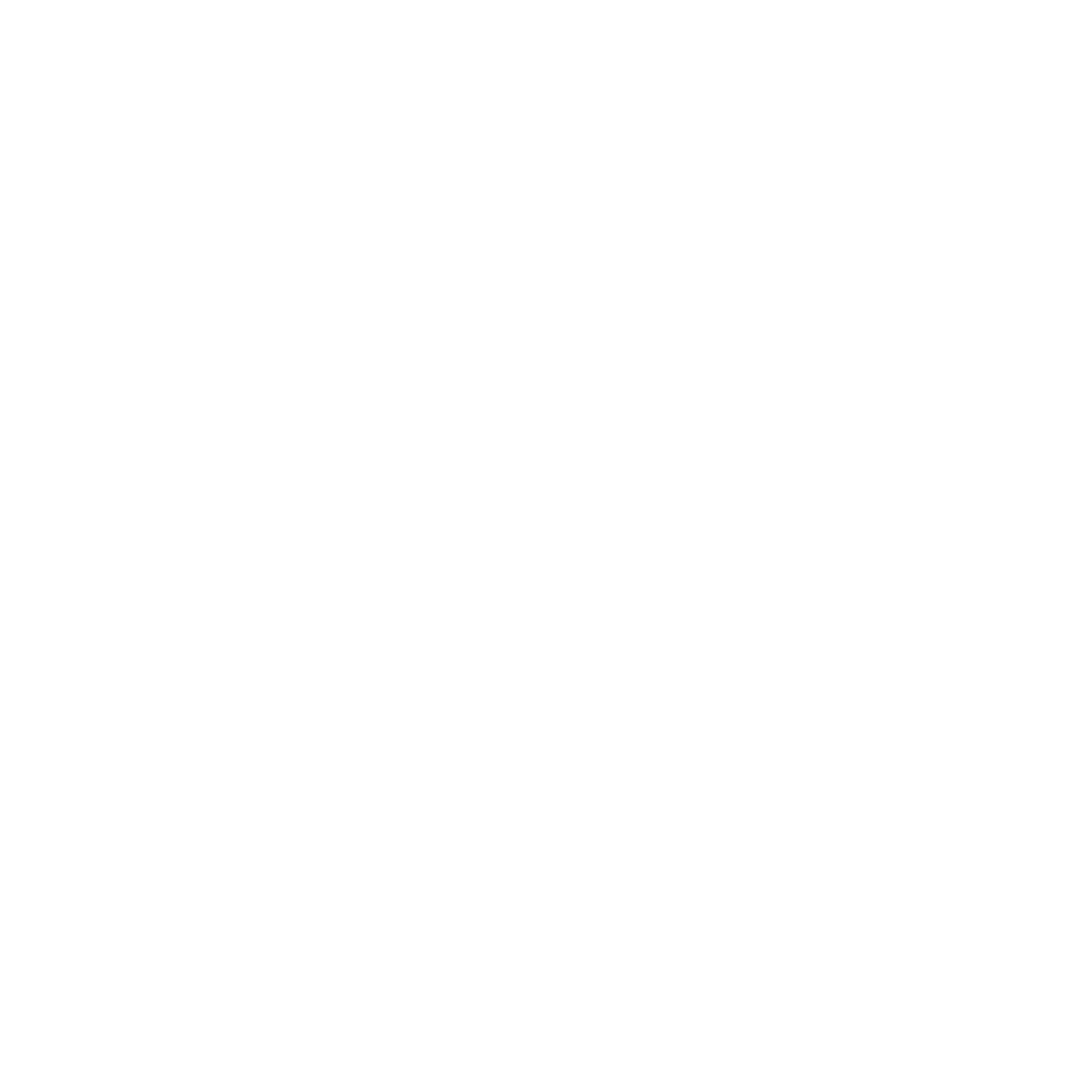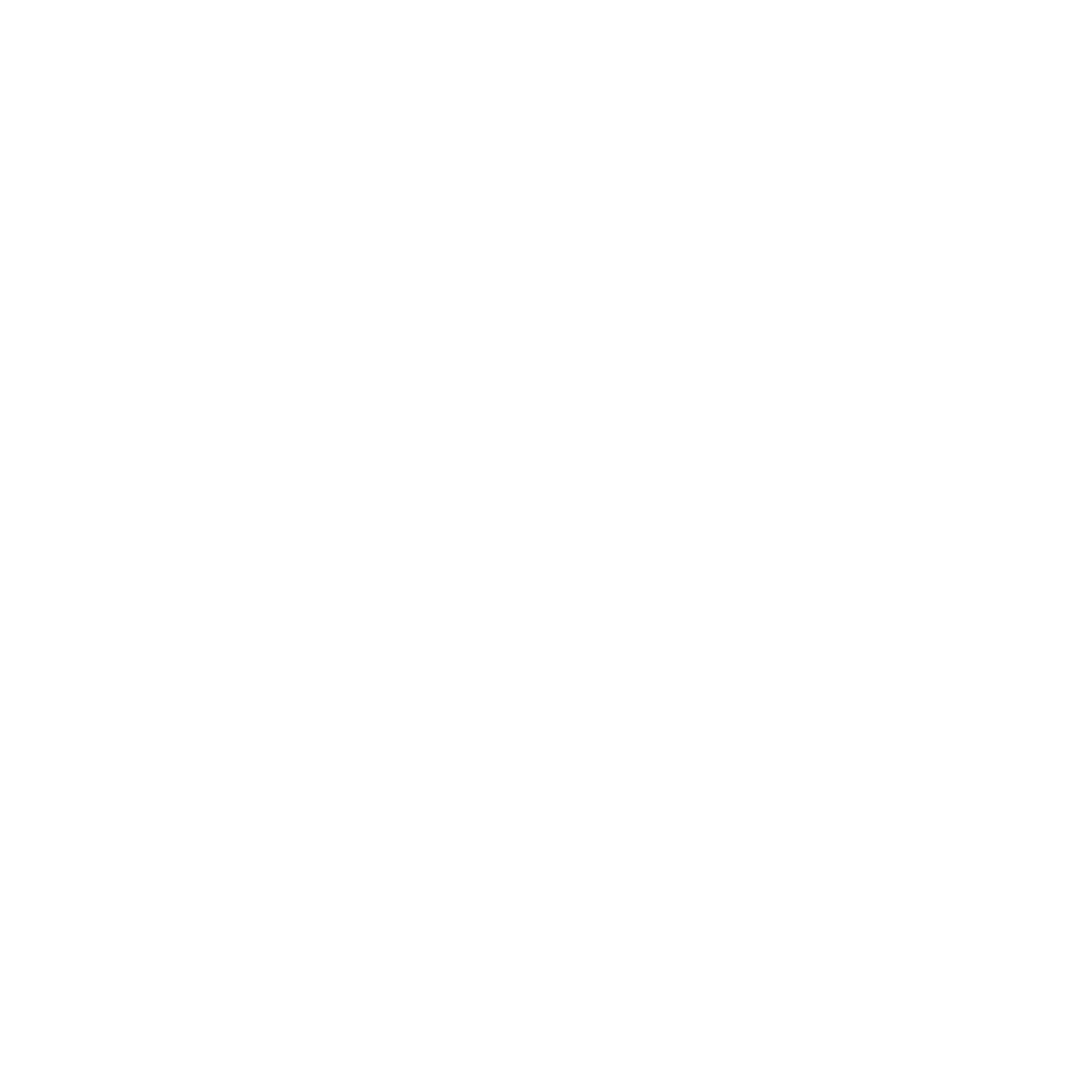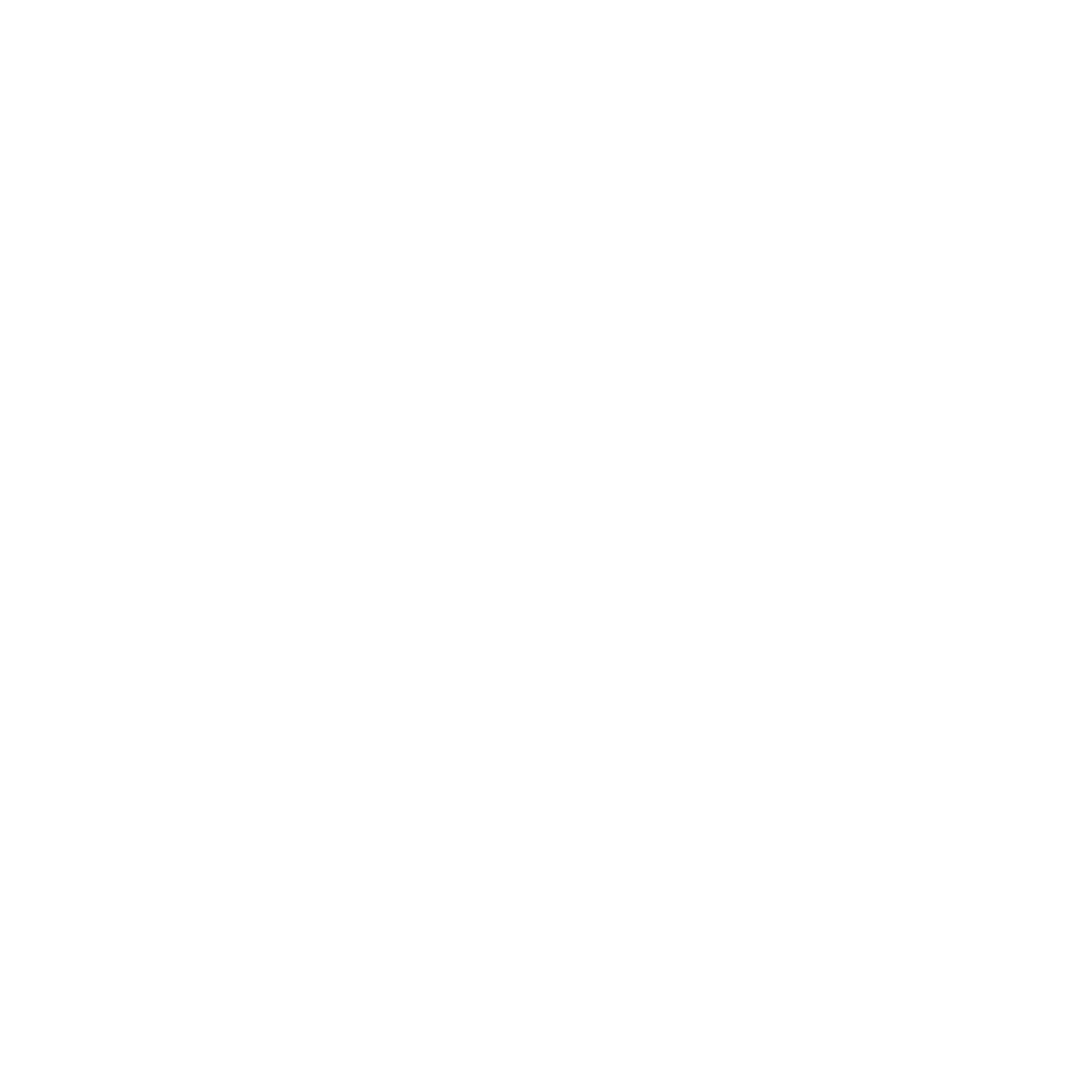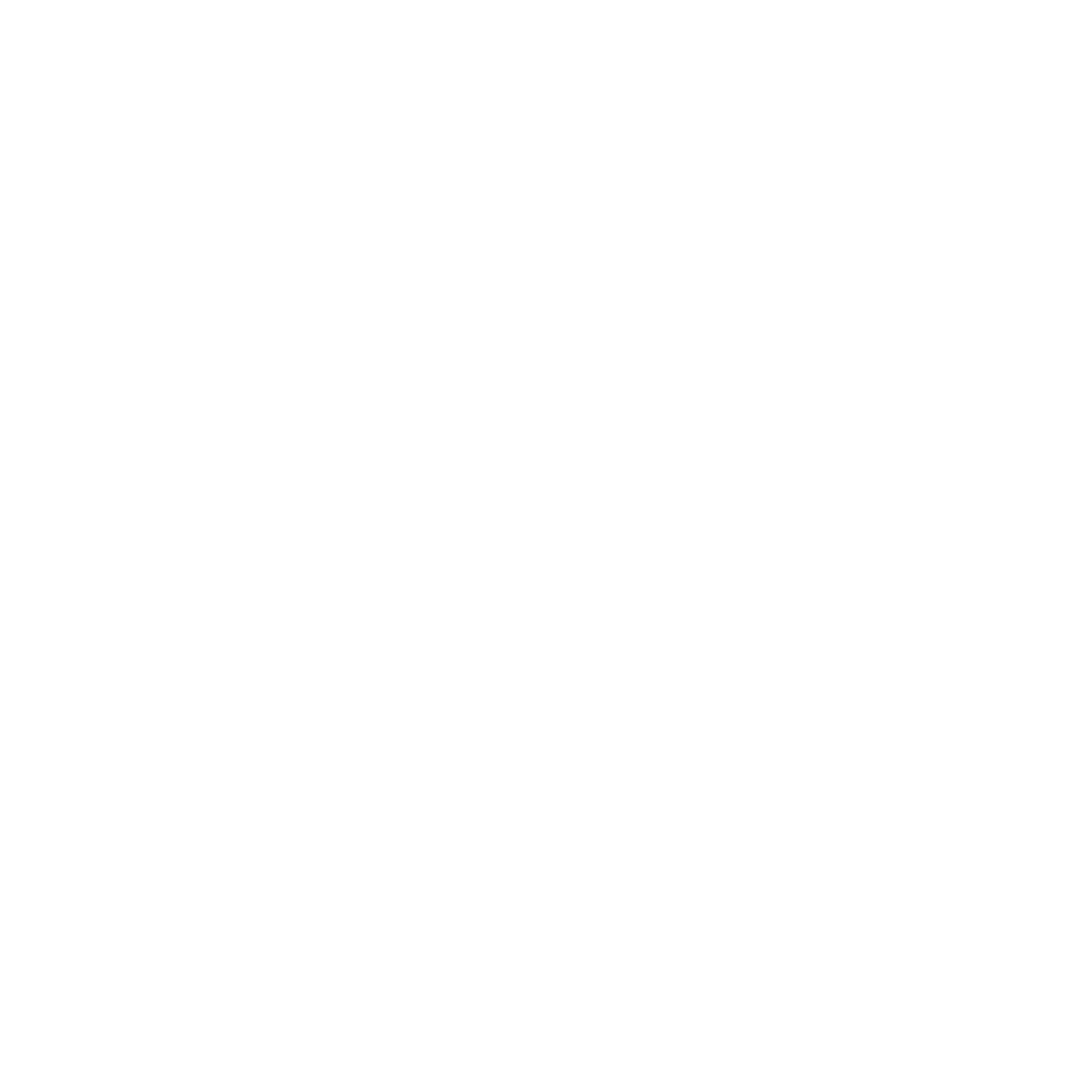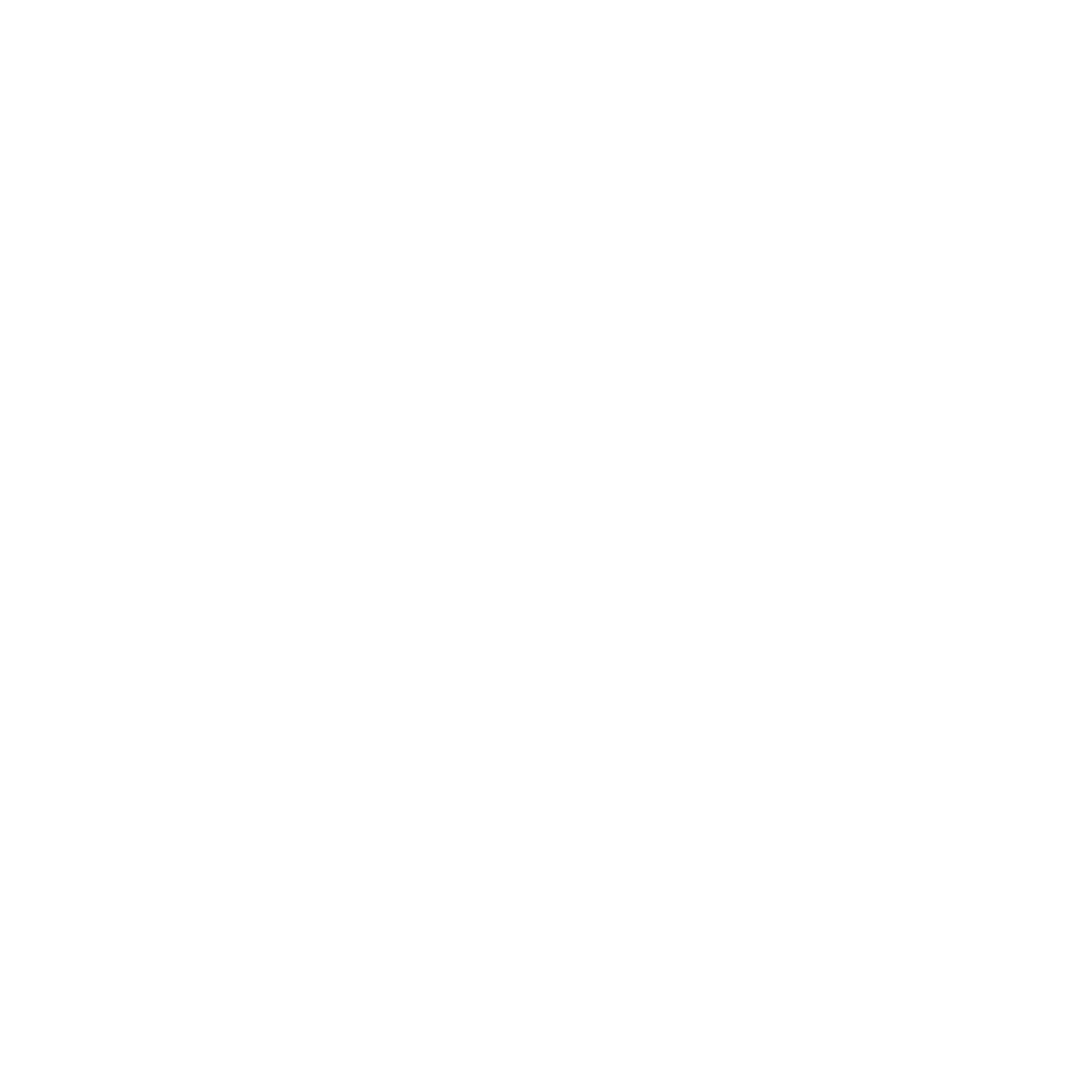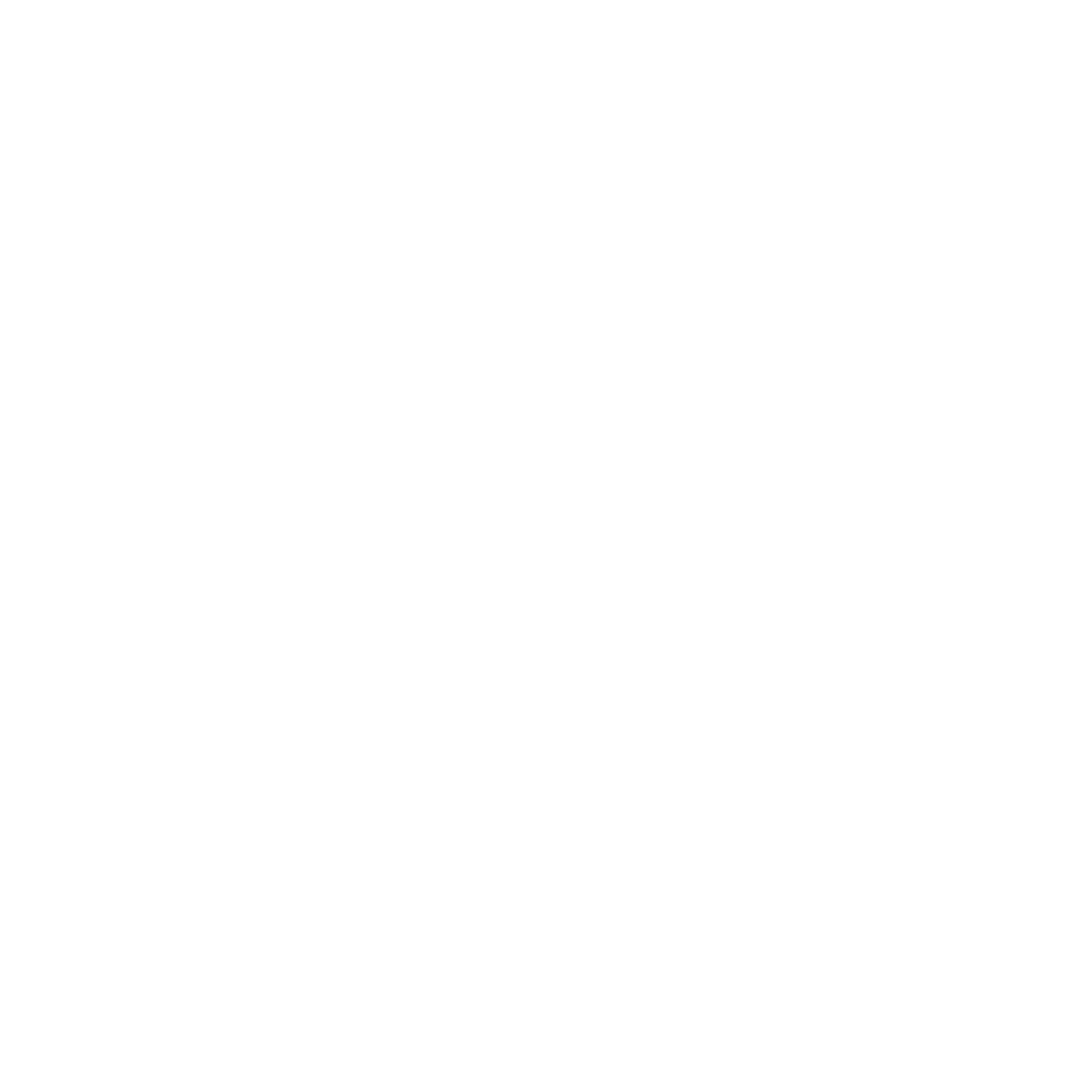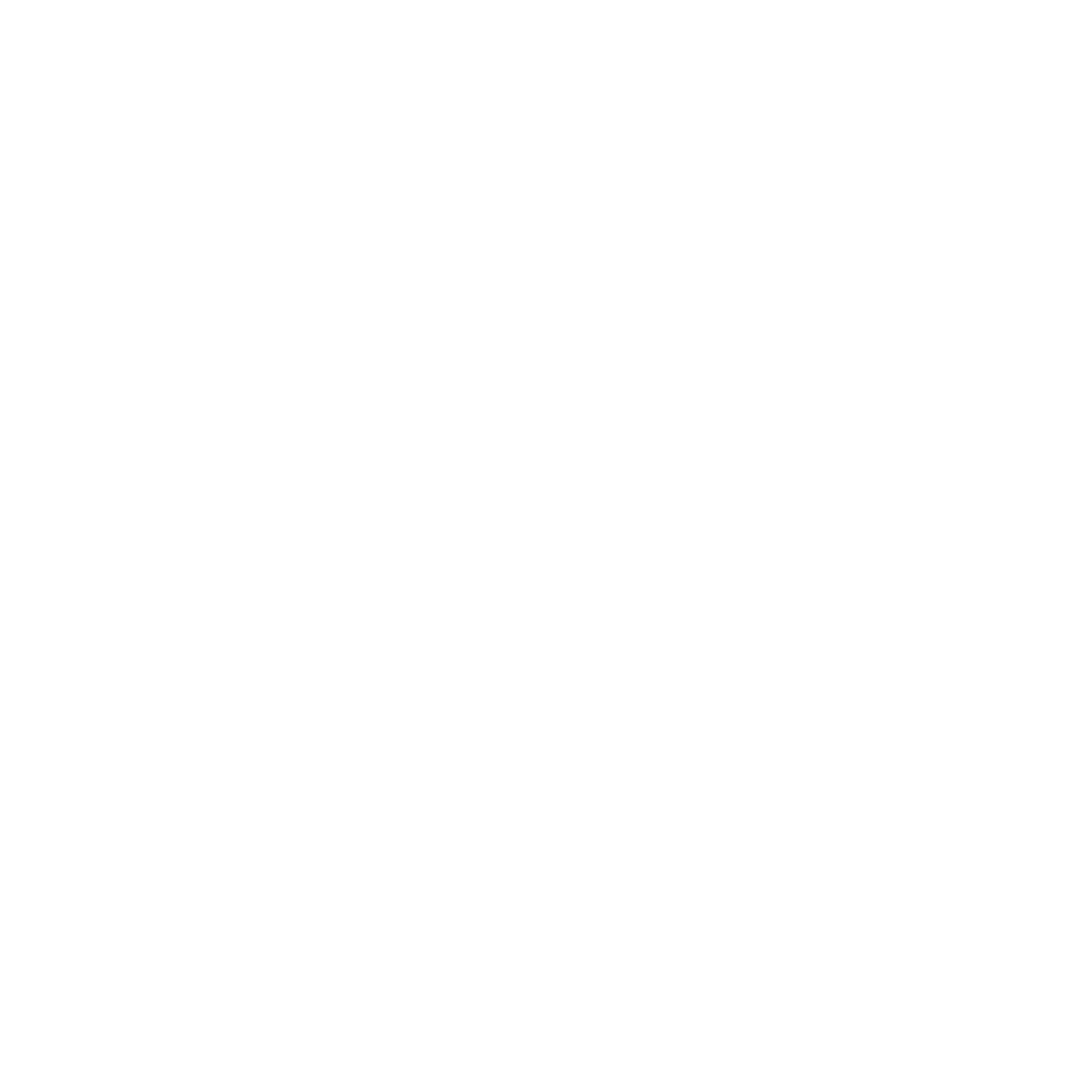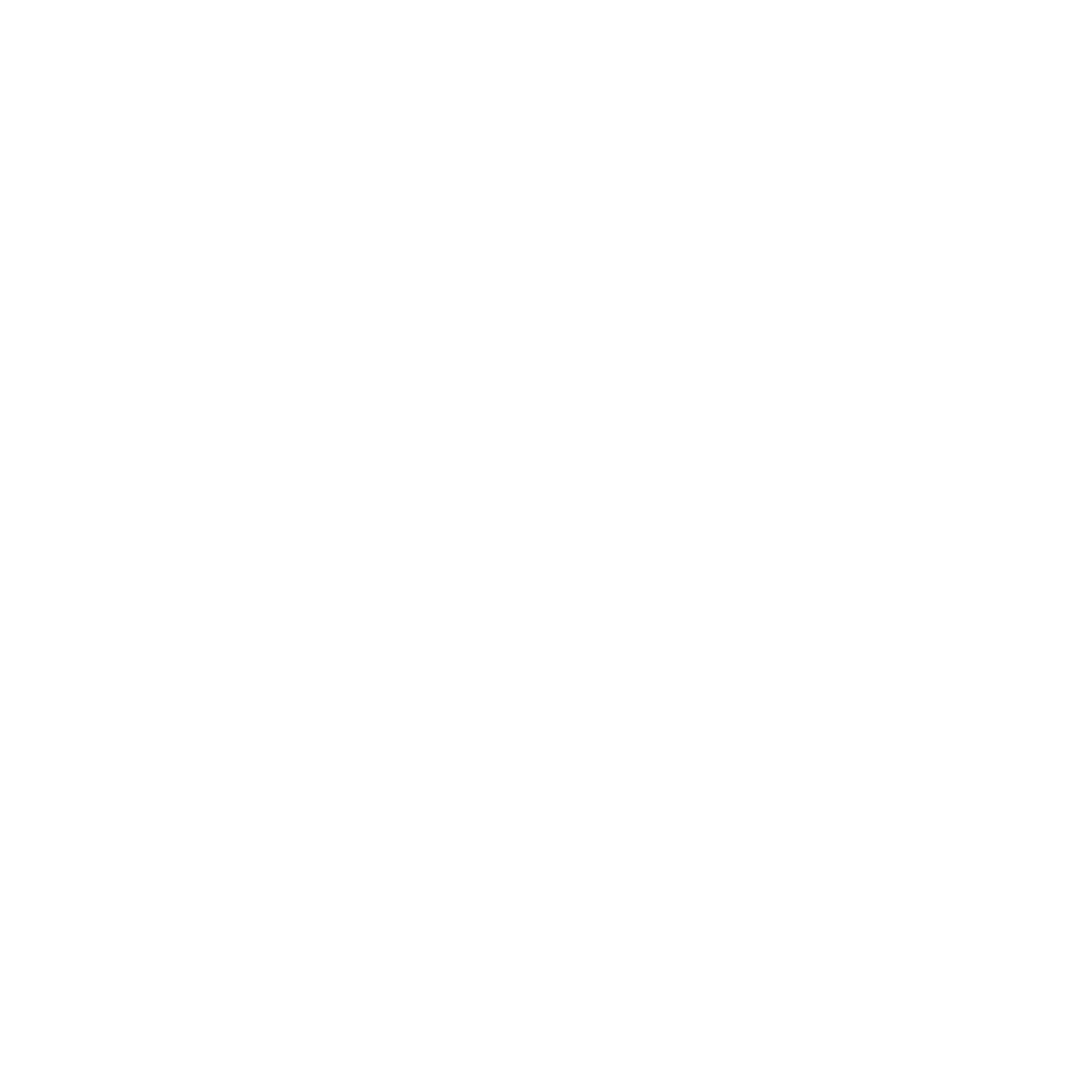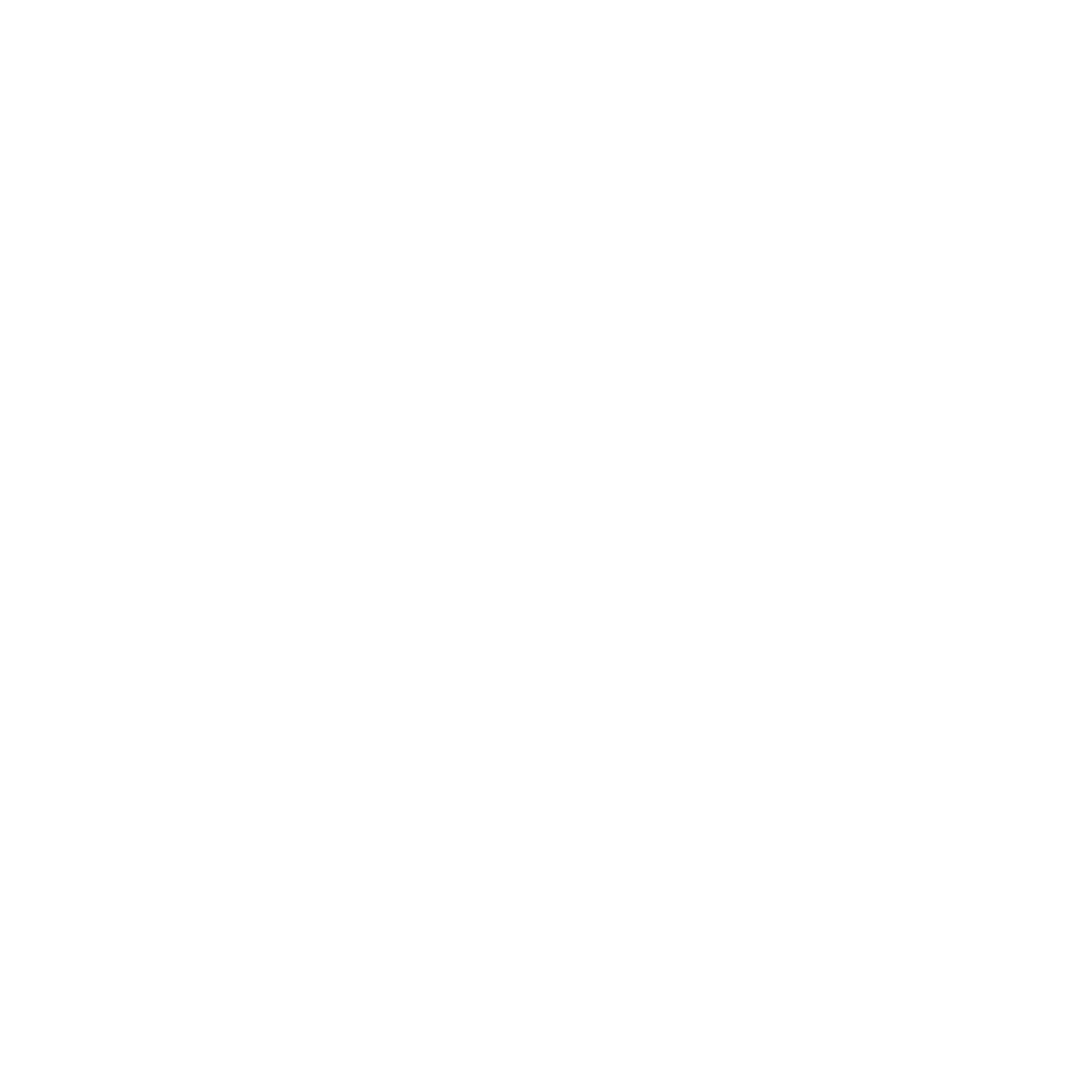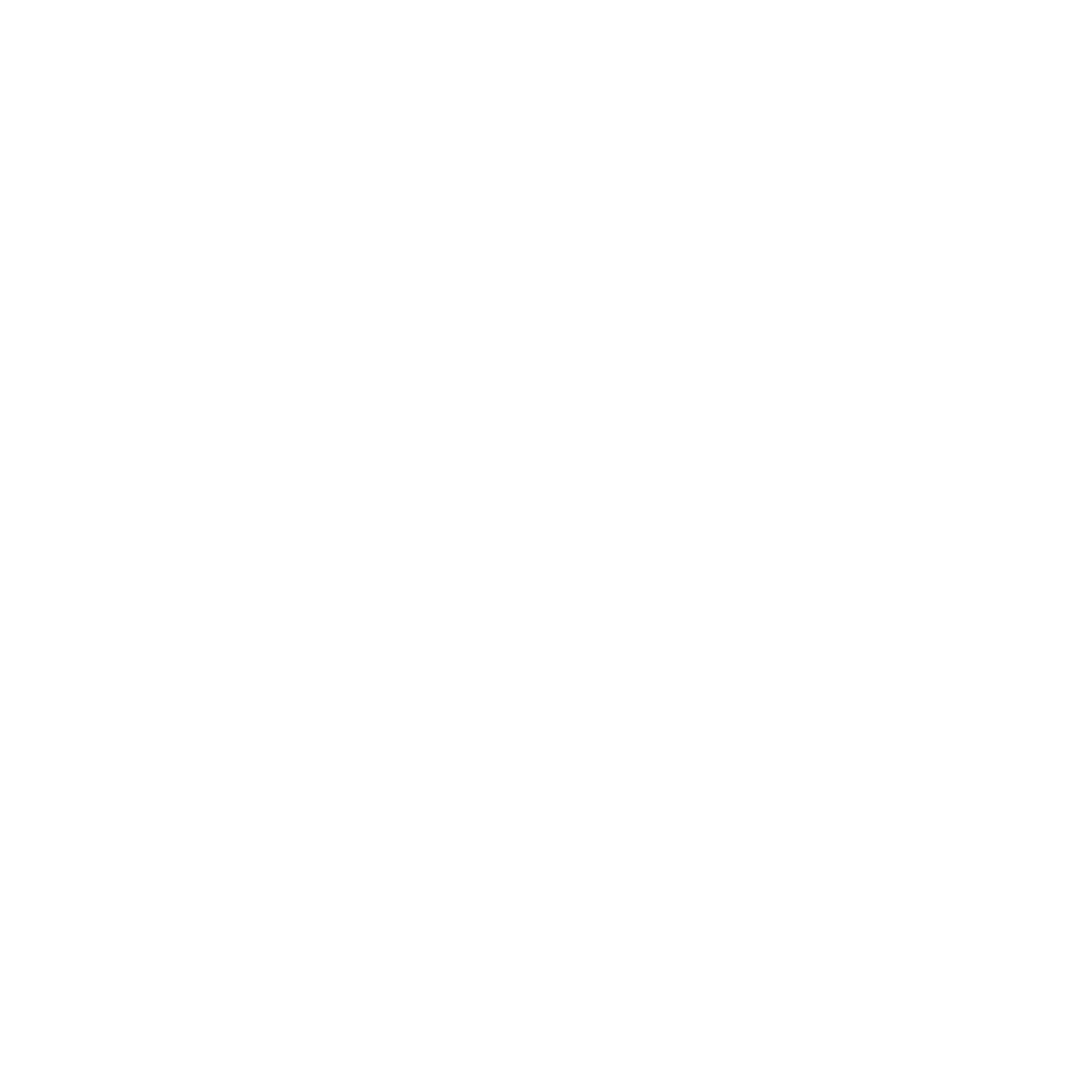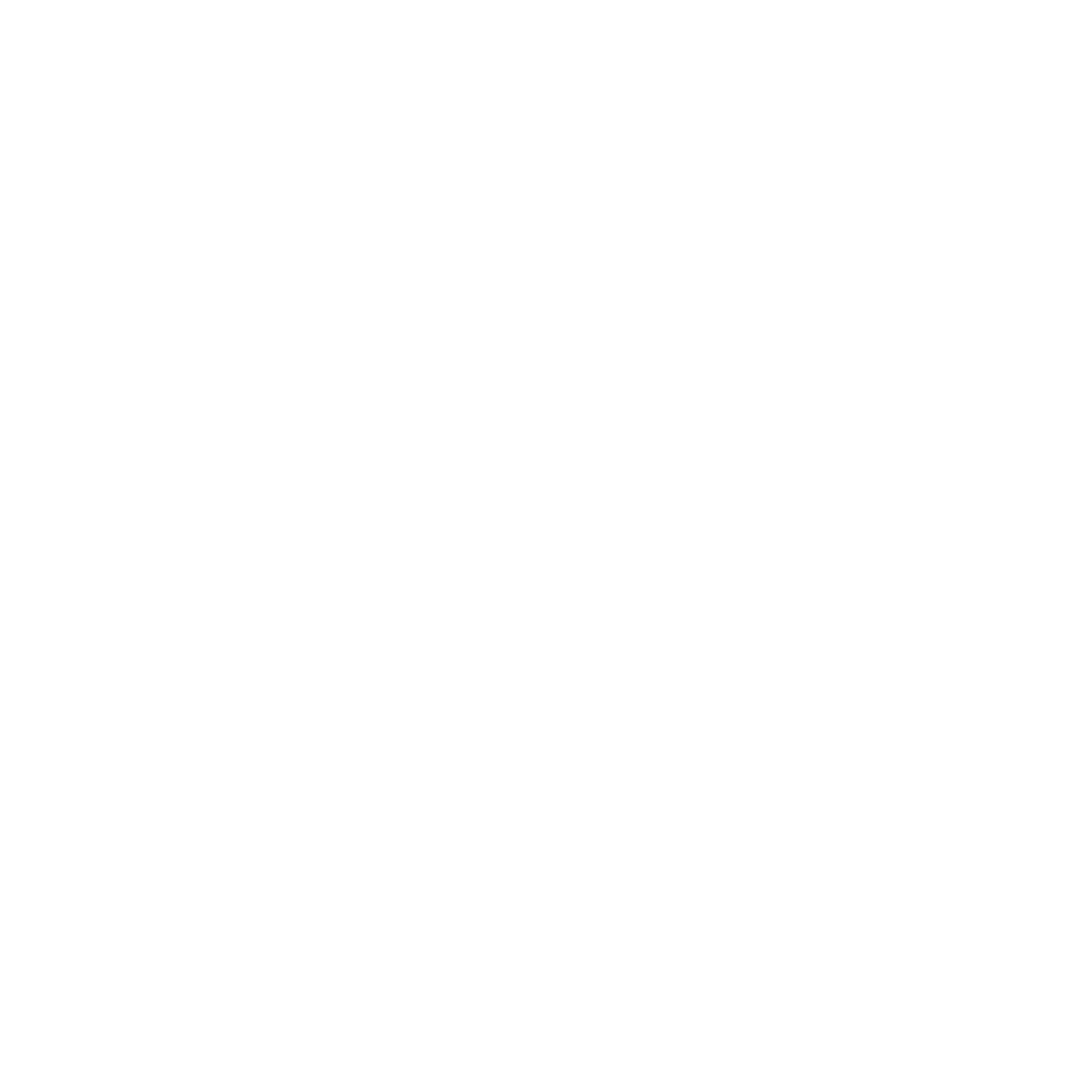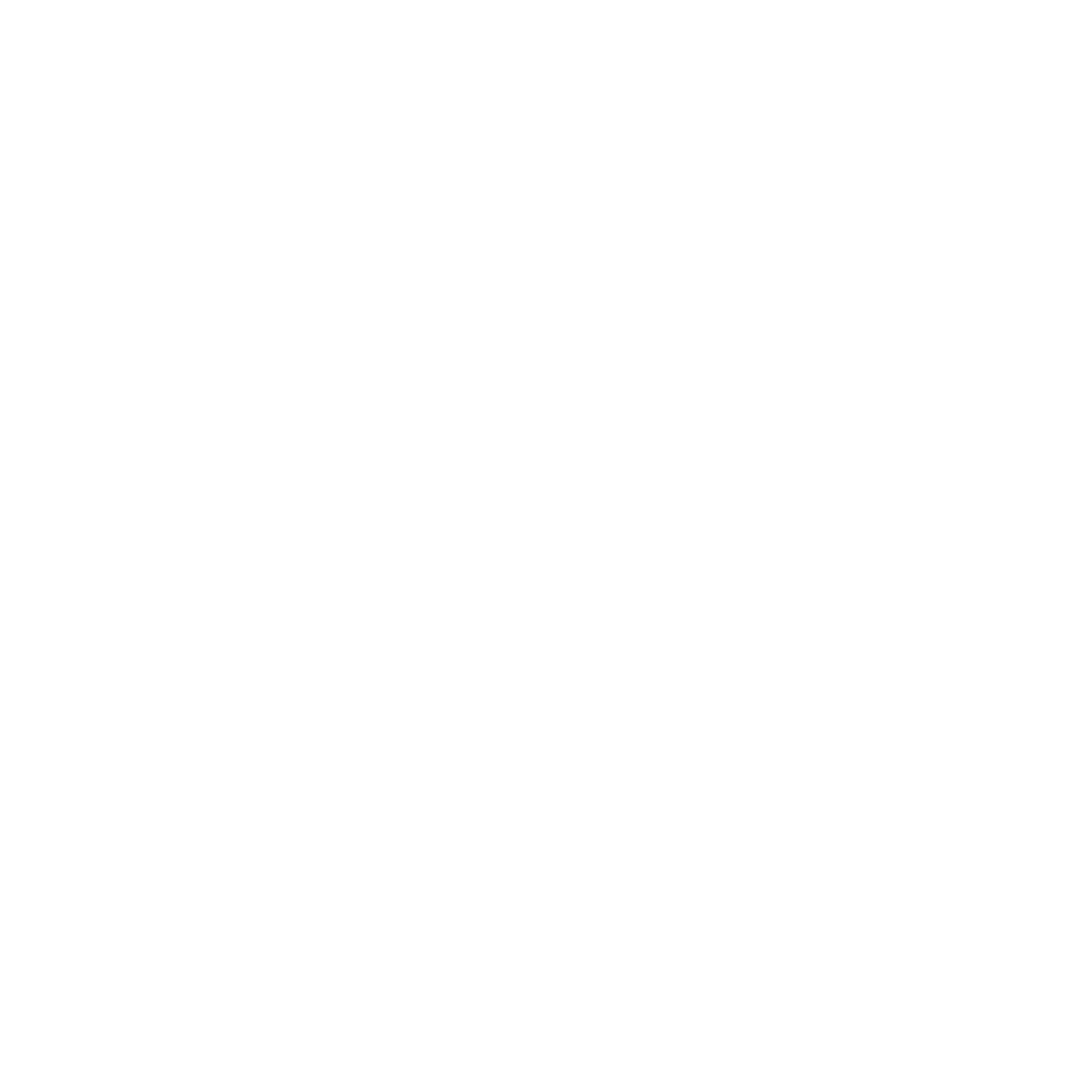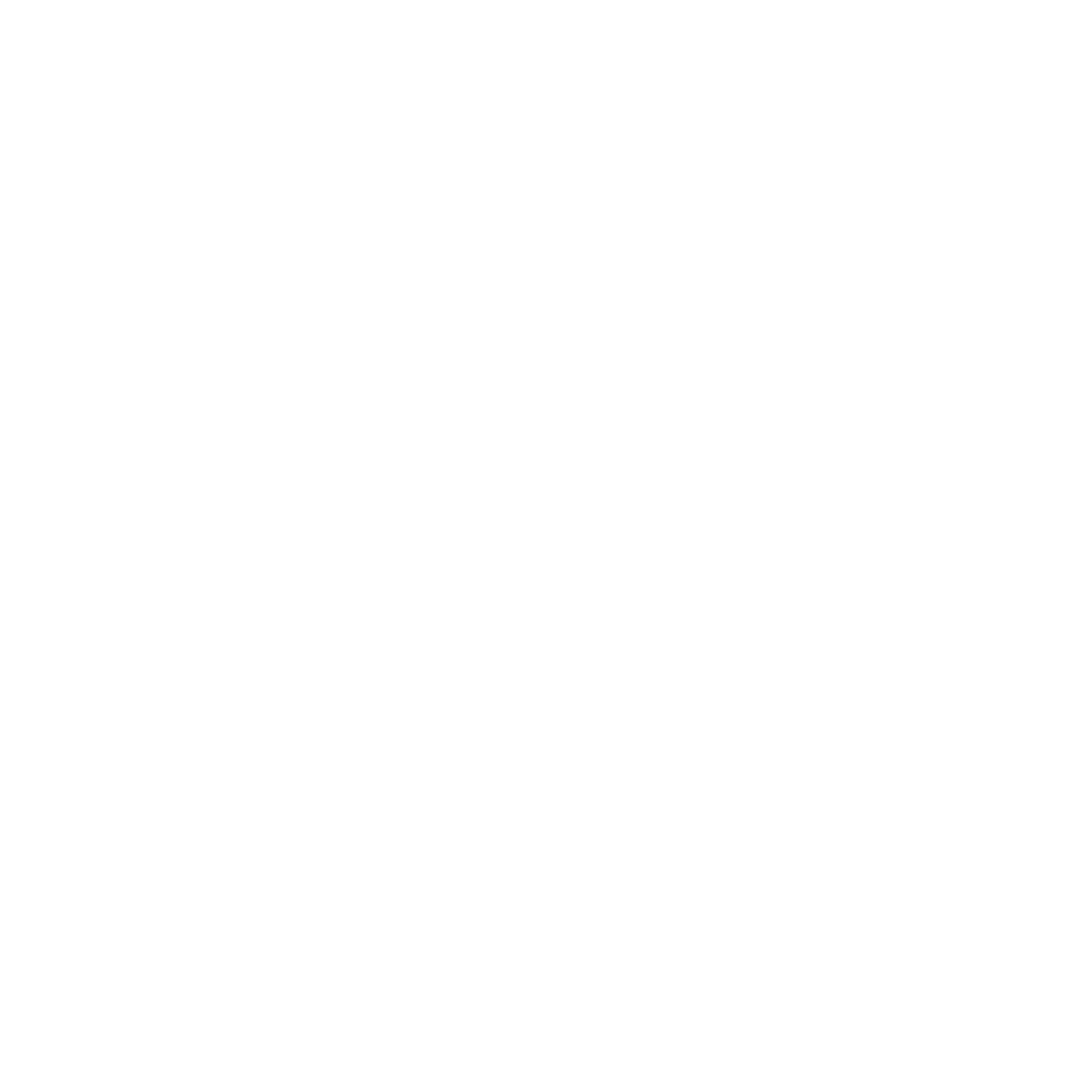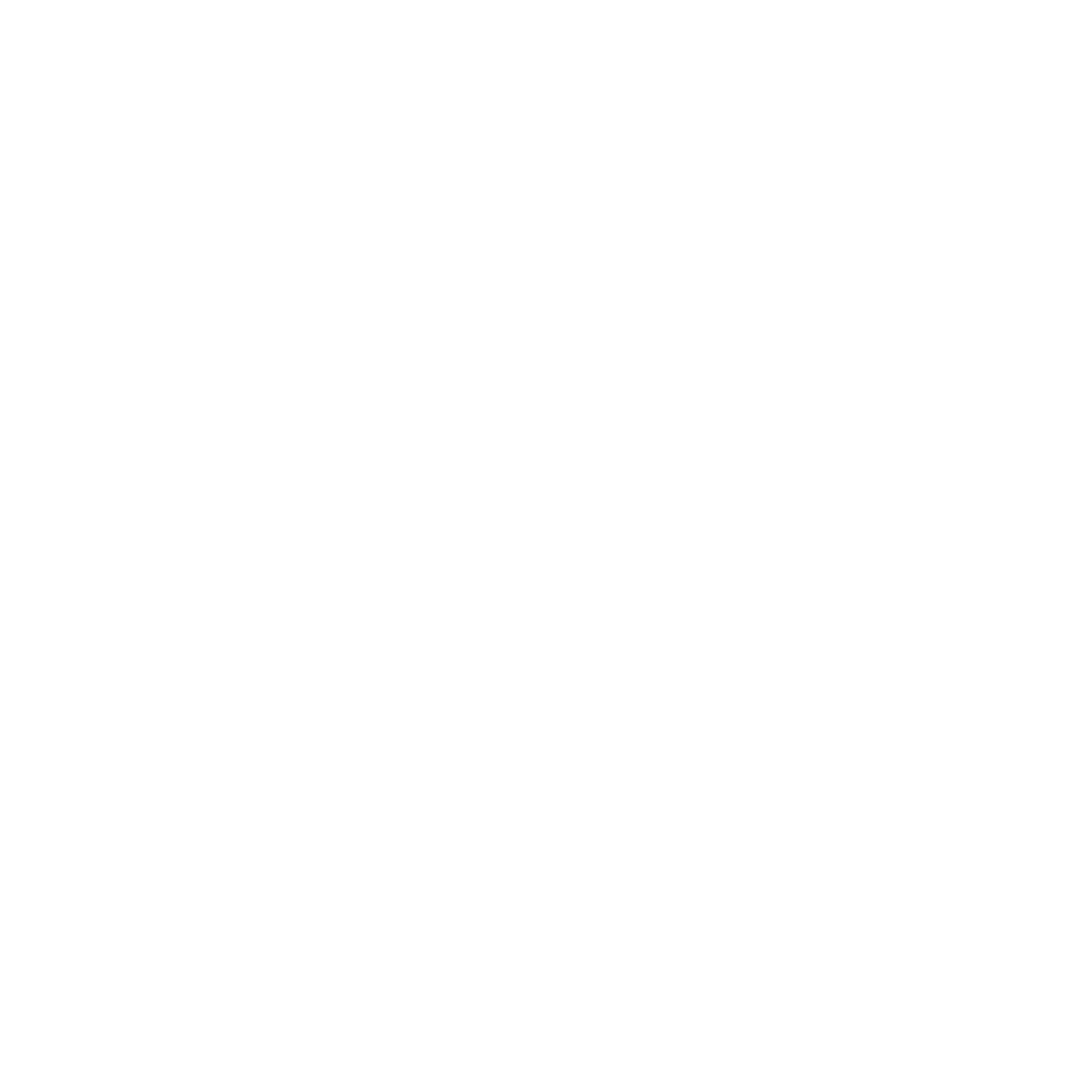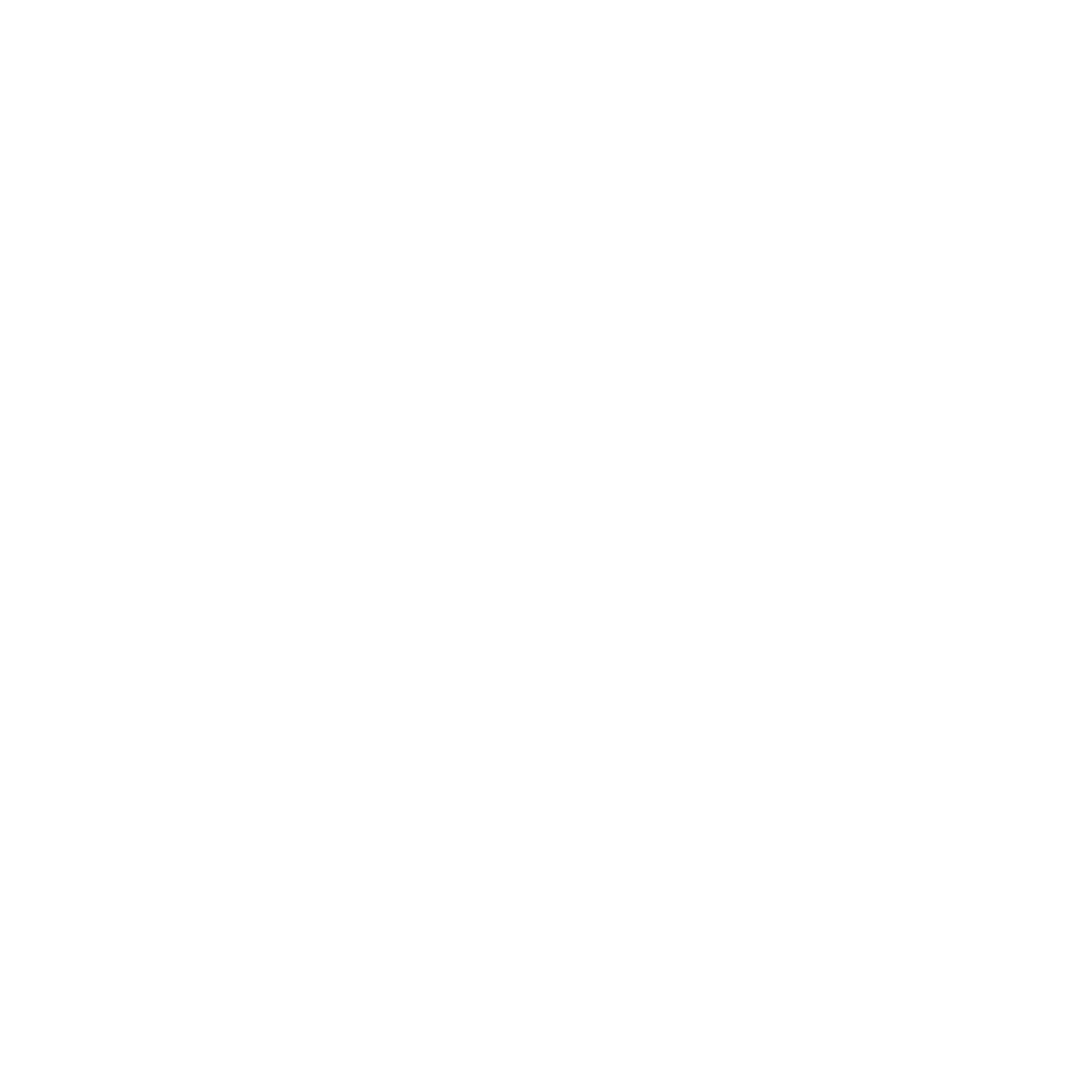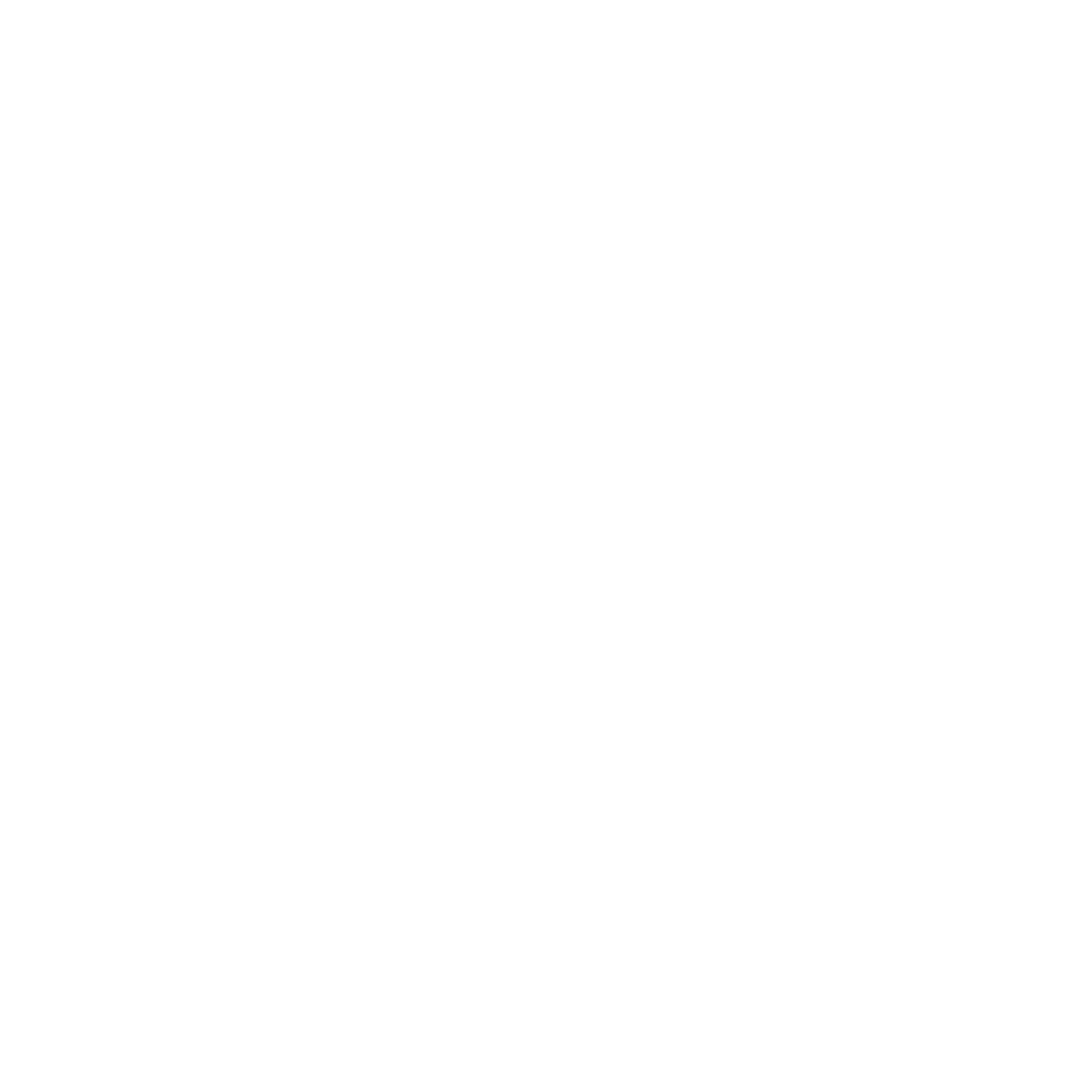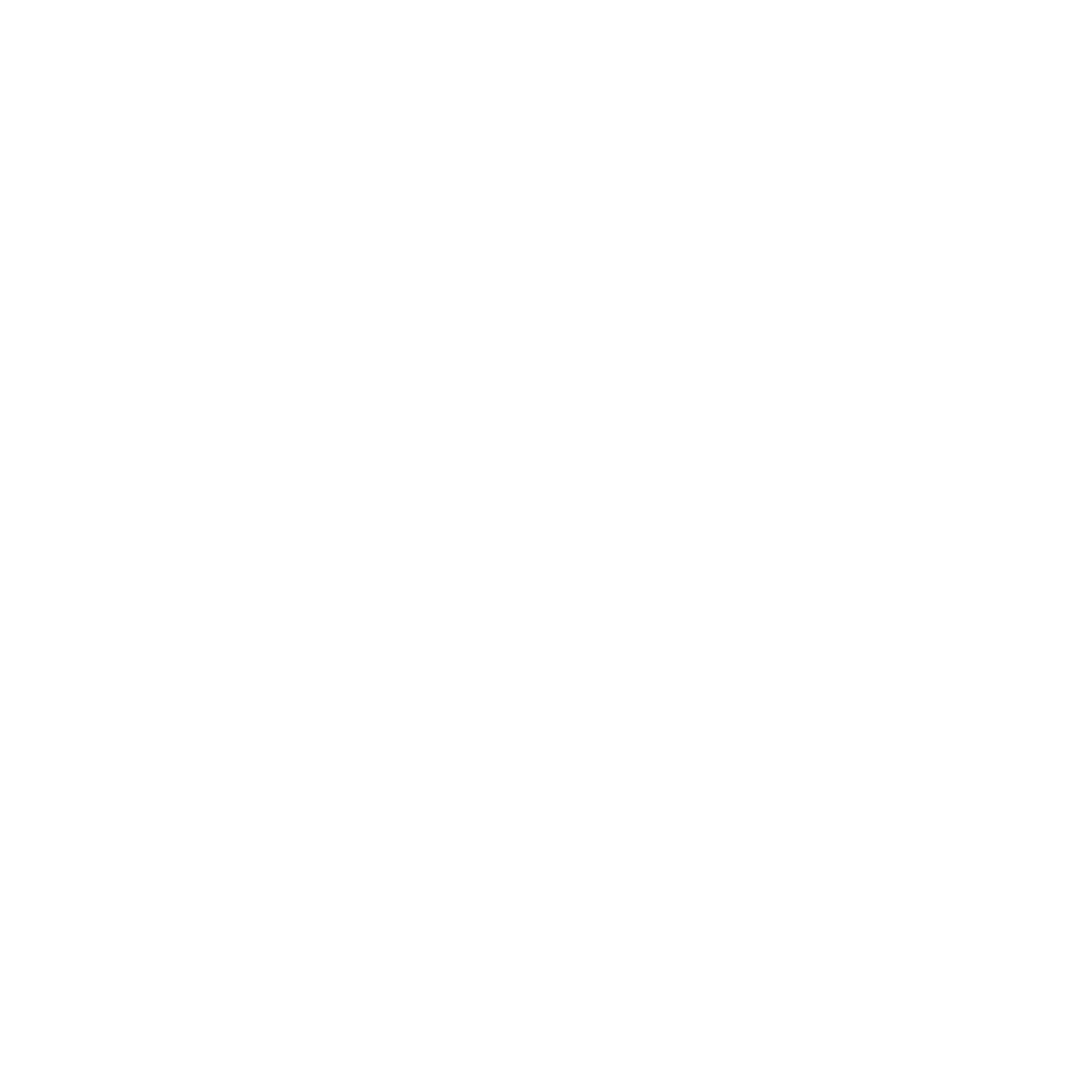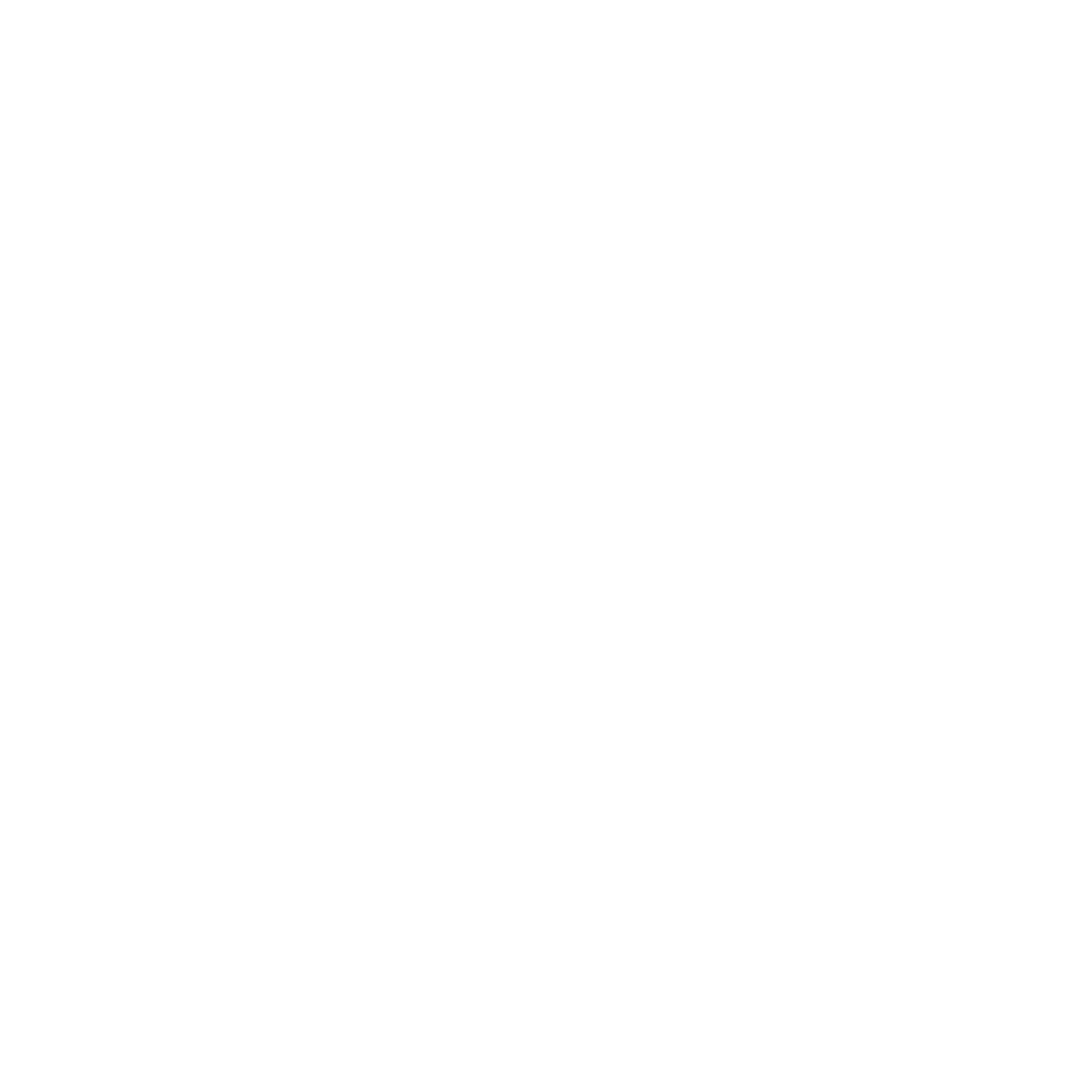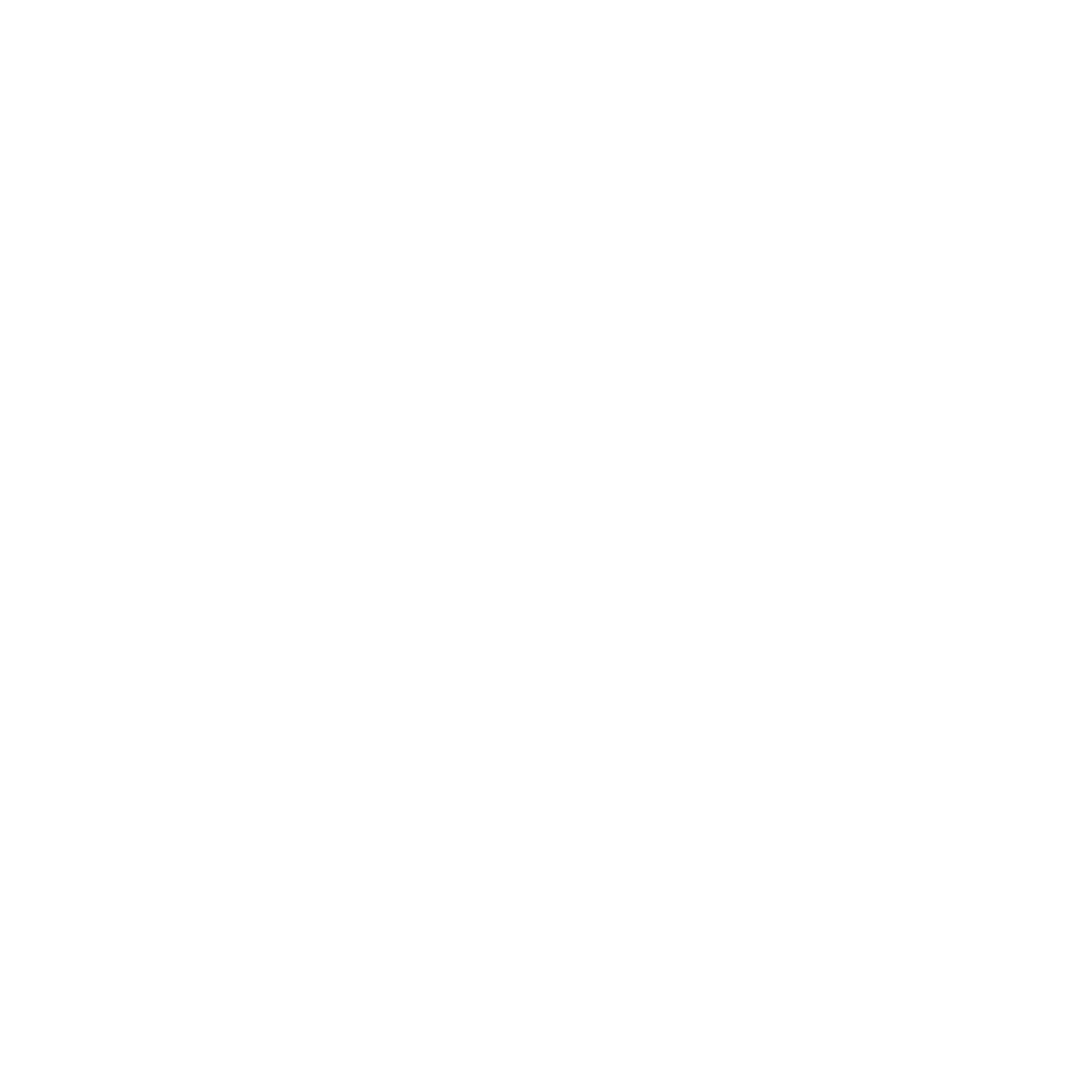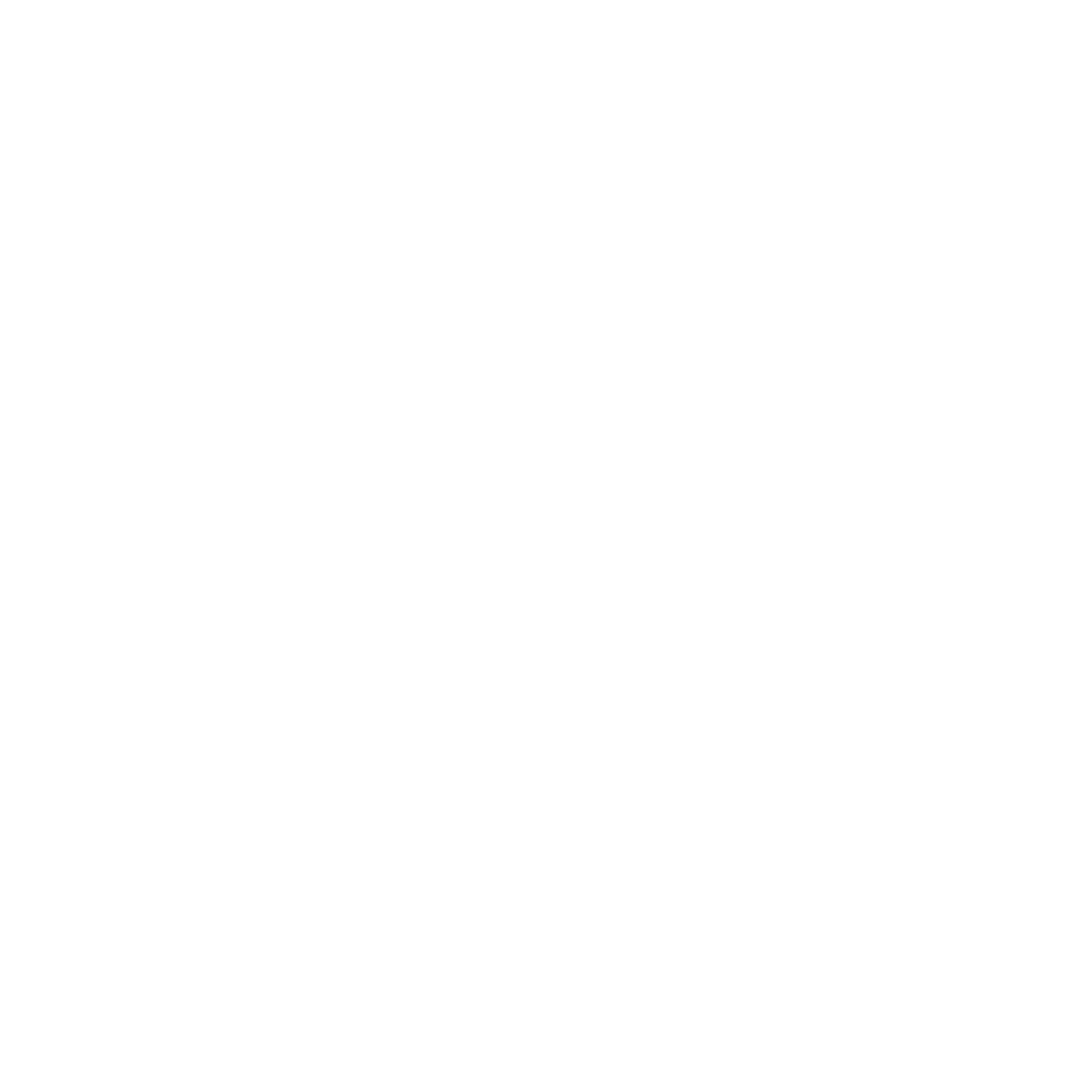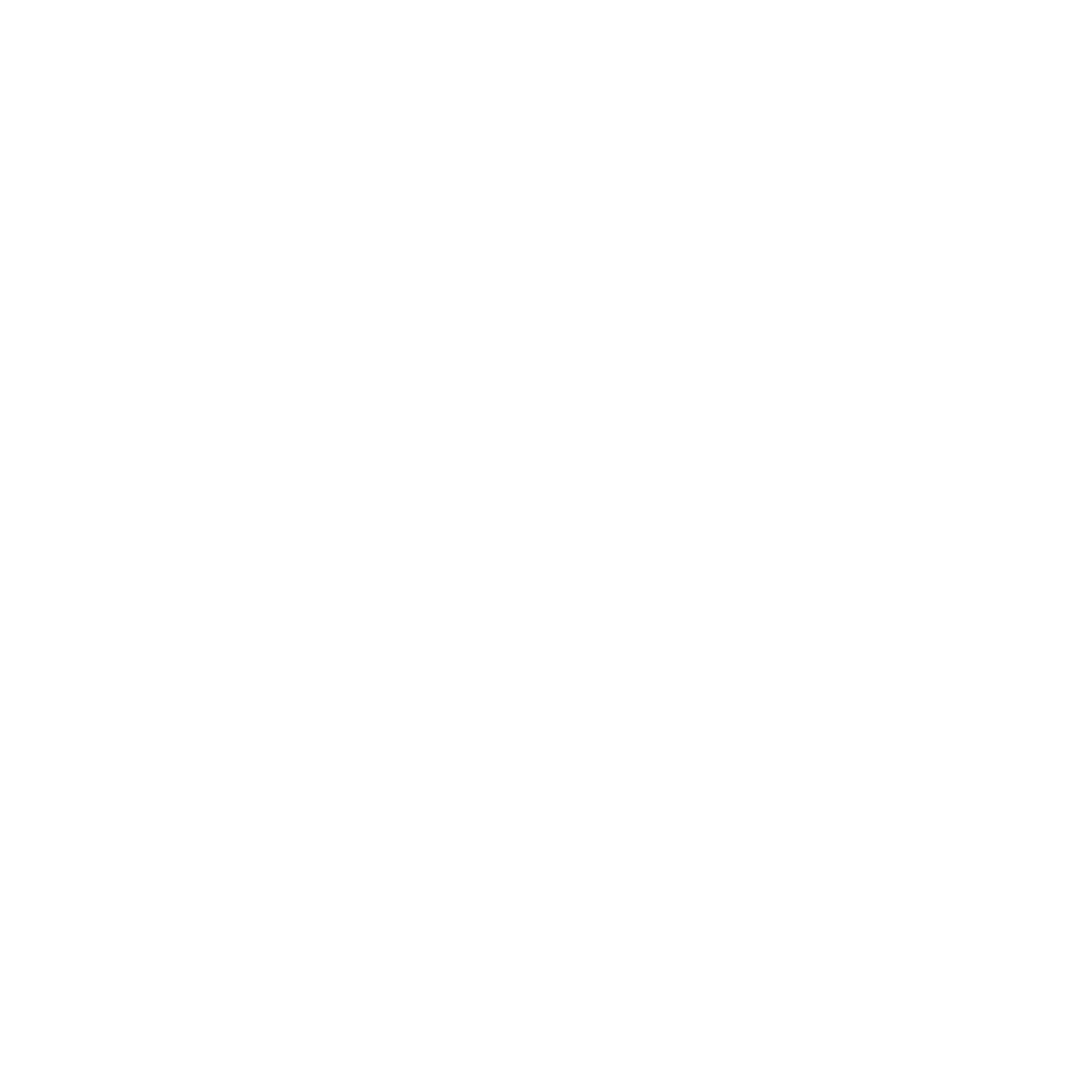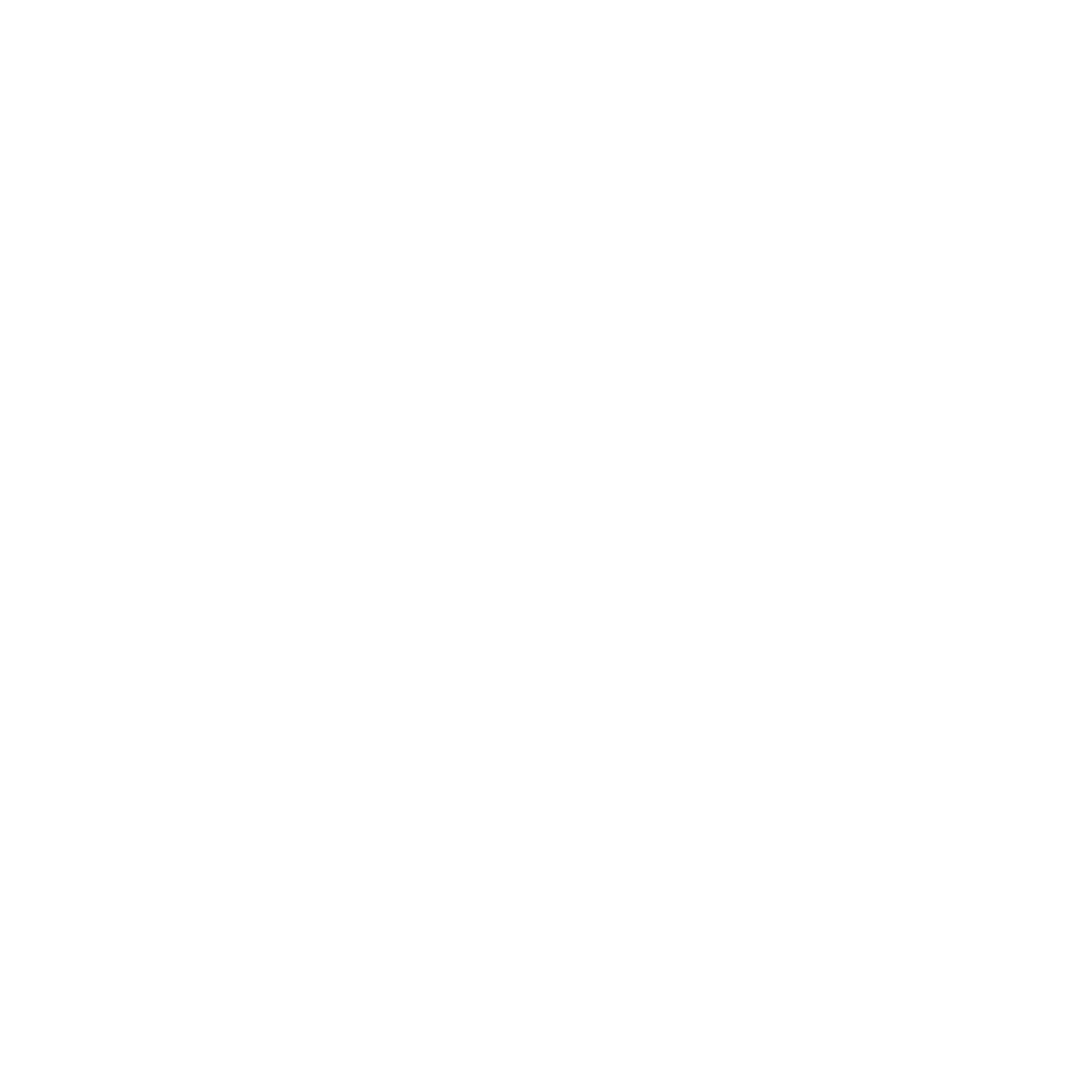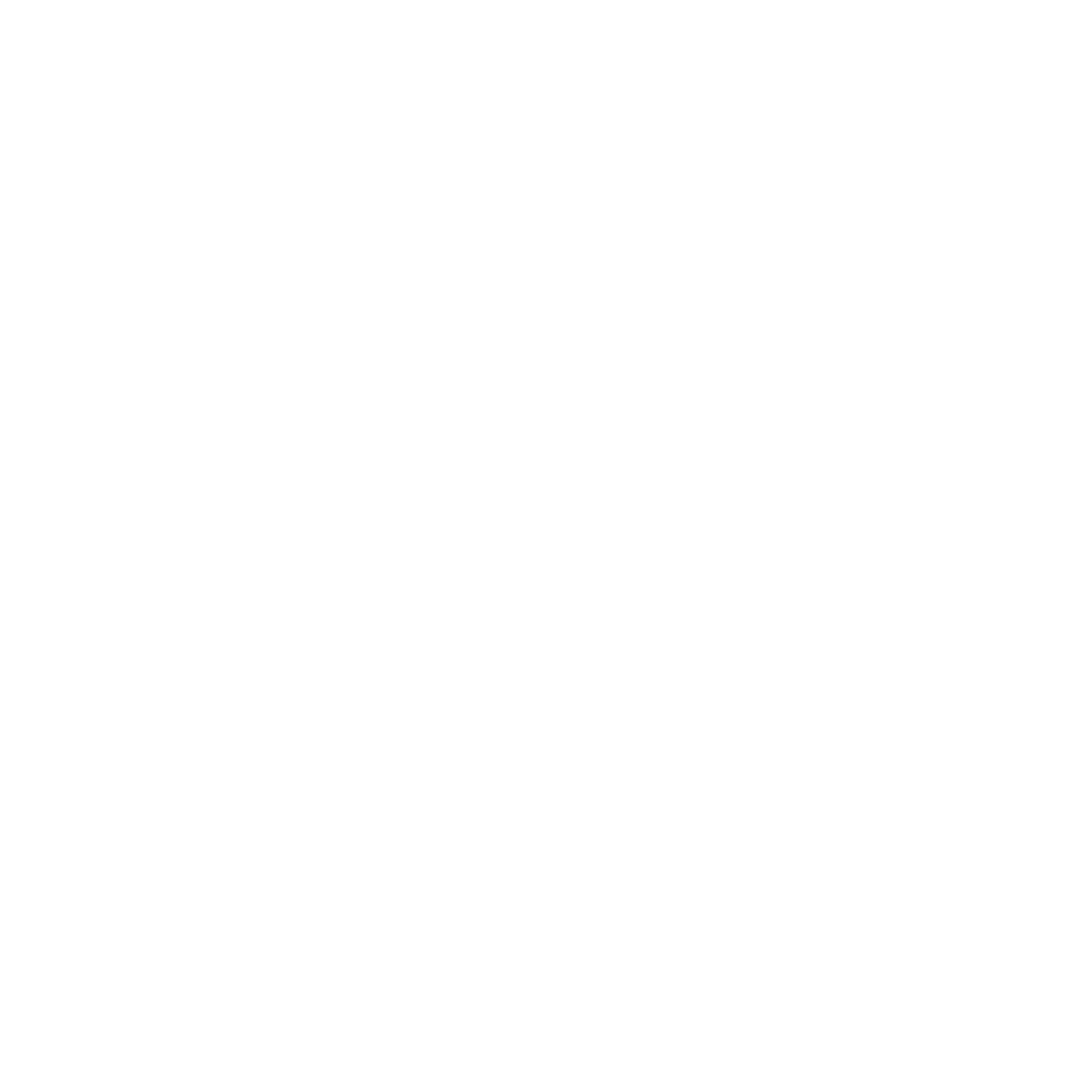«Ребенок родит ребенка»: как россияне воспринимают подростковую беременность
Что мы знаем о ранней беременности
По данным ВОЗ, подростковая беременность чаще встречается среди девушек с низким уровнем образования и из неблагополучных семей. Даже при желании избежать её, подростки могут не иметь доступа к контрацепции из-за нехватки информации, финансов, поддержки медицины или юридических ограничений. По оценкам на 2021 год, в мире насчитывается около 650 миллионов женщин, выданных замуж в детстве. Ранние браки увеличивают риск беременности из-за ограниченной автономии девочек в вопросах контрацепции и планирования семьи. Кроме того, в бедных сообществах материнство часто воспринимается как единственный способ реализоваться, особенно при отсутствии других перспектив. Данные подсказывают: факторы, приводящие к ранней беременности лежат плоскости социального, а нормативные представления о том, как должна развиваться жизнь молодых девушек, играют существенную роль в сексуальном поведении подростков.
В России число подростковых беременностей снижается — с 18 случаев на 1000 девушек в 1990 году до 5 в 2021. Тем не менее, в 2021 году у несовершеннолетних матерей в стране родилось 11 тысяч детей, еще около трех тысяч беременностей были прерваны. Регионы, где девушки-подростки чаще становятся матерями
— это Забайкальский край, Еврейская АО и республика Тыва. Как замечают авторы из «Если быть точным», эти места отличаются низким уровнем жизни и большой долей малоимущих семей.
В России число подростковых беременностей снижается — с 18 случаев на 1000 девушек в 1990 году до 5 в 2021. Тем не менее, в 2021 году у несовершеннолетних матерей в стране родилось 11 тысяч детей, еще около трех тысяч беременностей были прерваны. Регионы, где девушки-подростки чаще становятся матерями
— это Забайкальский край, Еврейская АО и республика Тыва. Как замечают авторы из «Если быть точным», эти места отличаются низким уровнем жизни и большой долей малоимущих семей.
Подростковая беременность — социальное событие, а не только личный выбор
В последнее время дискуссия о том, как стимулировать рождаемость и нужно ли это делать, возобновилась. Одна из возможных форм поддержки — денежные выплаты для матерей, которые позволят покрыть первые расходы. В некоторых областях РФ такие программы теперь распространяются и на беременных школьниц. Предполагается, что мамы-подростки особенно нуждаются в помощи, поскольку общество не готово их поддерживать.
В недавнем опросе ВЦИОМ выяснилось, что 40% россиян относятся к инициативе выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам негативно, а 43% — относятся к этой идее положительно. При этом большинство (73%) считают беременность до 18 лет недопустимой.
Однако беременность — особенно подростковая — это событие, которое трансформирует повседневность не только самой девушки, но существенно большего числа людей. Важно понять, какие причины и какие негативные последствия связываются с ранней беременностью и какая стигма ассоциирована с ней: не для того, чтобы нормализовать подростковое материнство, но чтобы определить интериоризированные причины, подталкивающие российских подростков к зачатию. Другими словами, прежде всего следует выяснить — как этот феномен осмысляется и какими качествами наделяются участники этой ситуации?
В недавнем опросе ВЦИОМ выяснилось, что 40% россиян относятся к инициативе выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам негативно, а 43% — относятся к этой идее положительно. При этом большинство (73%) считают беременность до 18 лет недопустимой.
Однако беременность — особенно подростковая — это событие, которое трансформирует повседневность не только самой девушки, но существенно большего числа людей. Важно понять, какие причины и какие негативные последствия связываются с ранней беременностью и какая стигма ассоциирована с ней: не для того, чтобы нормализовать подростковое материнство, но чтобы определить интериоризированные причины, подталкивающие российских подростков к зачатию. Другими словами, прежде всего следует выяснить — как этот феномен осмысляется и какими качествами наделяются участники этой ситуации?
Особенности исследования
Чтобы лучше понять отношение к подростковой беременности, мы провели 4 фокус-группы: с молодыми людьми 18–27 лет без детей и взрослыми 30–45 лет с детьми. Информанты обсудили эпизод шоу «Мама в 16» — это задало общий контекст разговора и позволило глубже понять, как люди относятся к подростковому материнству.
Сюжет был относительно «мягким»: 16-летняя героиня из многодетной семьи беременеет после коротких отношений, парень принимает ребенка, родители девушки поддерживают её, а семья отца — нет. Несмотря на бытовые трудности, пара остается вместе, и финал намечает переезд в отдельное жилье.
Мы выбрали именно такую серию, потому что в ней показана относительно «позитивная» история: здесь нет домашнего насилия, серьезных конфликтов, отказа от ребёнка или прочих трагичных особенностей, которые могут быть связаны с ранней беременностью. Серия с «хорошим концом» вступает в противоречие с данными опросов, которые отражают негативное отношение к подростковой беременности. Мы стремились зафиксировать этот разрыв между позитивной телевизионной репрезентацией и общественными установками — и проследить, как зрители интерпретируют такую историю.
Сюжет был относительно «мягким»: 16-летняя героиня из многодетной семьи беременеет после коротких отношений, парень принимает ребенка, родители девушки поддерживают её, а семья отца — нет. Несмотря на бытовые трудности, пара остается вместе, и финал намечает переезд в отдельное жилье.
Мы выбрали именно такую серию, потому что в ней показана относительно «позитивная» история: здесь нет домашнего насилия, серьезных конфликтов, отказа от ребёнка или прочих трагичных особенностей, которые могут быть связаны с ранней беременностью. Серия с «хорошим концом» вступает в противоречие с данными опросов, которые отражают негативное отношение к подростковой беременности. Мы стремились зафиксировать этот разрыв между позитивной телевизионной репрезентацией и общественными установками — и проследить, как зрители интерпретируют такую историю.
Ранняя беременность — это чрезвычайное происшествие
Подростковая беременность воспринимается как «сбой» в жизни — нечто ненормальное и нежелательное. Она нарушает привычный порядок: сначала учеба, карьера, затем осознанное родительство.
Для большинства участников исследования это событие похоже на чрезвычайную ситуацию, которую хочется предотвратить. Подросток оказывается одновременно в роли ребёнка и взрослого, не соответствуя ни одной из них, что вызывает у окружающих тревогу, сочувствие и раздражение.
Такое родительство воспринимается как преждевременное: у подростков нет ни финансовой, ни эмоциональной самостоятельности, а потому они не готовы к этой роли.
Для большинства участников исследования это событие похоже на чрезвычайную ситуацию, которую хочется предотвратить. Подросток оказывается одновременно в роли ребёнка и взрослого, не соответствуя ни одной из них, что вызывает у окружающих тревогу, сочувствие и раздражение.
Такое родительство воспринимается как преждевременное: у подростков нет ни финансовой, ни эмоциональной самостоятельности, а потому они не готовы к этой роли.
Причины негативного восприятия ранней беременности
Негативная реакция на раннюю беременность формируется не столько из осуждения самого факта сексуальной активности, сколько из несоответствия между подростковым возрастом и необходимыми условиями для родительства. В ходе дискуссий были выявлены 4 основные причины, диктующих восприятие ранней беременности как однозначно негативного события.
Главная причина критики — экономическая. У подростков нет дохода, жилья и опыта работы, поэтому вся нагрузка ложится на их родителей. Кроме того, такие беременности воспринимаются как путь в «поломанную жизнь» — срыв нормального взросления и потеря шансов на самореализацию.
Главная причина критики — экономическая. У подростков нет дохода, жилья и опыта работы, поэтому вся нагрузка ложится на их родителей. Кроме того, такие беременности воспринимаются как путь в «поломанную жизнь» — срыв нормального взросления и потеря шансов на самореализацию.
Финансовые последствия раннего родительства, как подчеркивают информанты, перекладываются на родителей подростков. В этой связи формируется представление о несправедливости: издержки за ребенка будет нести старшее поколение. Особенно заметно это в репликах родителей, уже имеющих детей: они особенно чувствительны в вопросе распределения ресурсов.
Для участников исследования рождение ребёнка ассоциируется со стабильной, зрелой семьей — с отношениями, прошедшими проверку временем и закрепленными браком. Такой союз должен быть материально обеспеченным и осознанным.
На этом фоне подростковые отношения воспринимаются как временные и нестабильные — скорее как этап проб и ошибок, а не как основа для создания семьи. Устойчиво воспроизводится модель «правильной», «нормативной» семьи: сначала взрослые люди встречаются, ведут совместный быт, а желание завести ребенка становится закономерным окончанием длительного и сложного пути становления крепкой семьи.
На этом фоне подростковые отношения воспринимаются как временные и нестабильные — скорее как этап проб и ошибок, а не как основа для создания семьи. Устойчиво воспроизводится модель «правильной», «нормативной» семьи: сначала взрослые люди встречаются, ведут совместный быт, а желание завести ребенка становится закономерным окончанием длительного и сложного пути становления крепкой семьи.
Подростковая беременность воспринимается как нарушение привычного жизненного пути: вместо последовательных этапов "учёба", "работа", "зрелые отношения" девушка сразу попадает в роль матери, к которой она ещё не готова. Это лишает её молодости и возможности для самореализации.
Информанты отмечают, что рождение ребёнка в 16 лет не выглядит как осознанный шаг, а скорее как «сбой» или преждевременный переход во взрослую жизнь. С точки зрения социокультурных норм, подростковая беременность воспринимается как «сломанный обряд» взросления — попытка стать взрослым, минуя важные промежуточные шаги.
Информанты отмечают, что рождение ребёнка в 16 лет не выглядит как осознанный шаг, а скорее как «сбой» или преждевременный переход во взрослую жизнь. С точки зрения социокультурных норм, подростковая беременность воспринимается как «сломанный обряд» взросления — попытка стать взрослым, минуя важные промежуточные шаги.
Подростковая беременность иногда воспринимается как результат социального контекста, в котором у девушки нет других вариантов для самореализации. В таких условиях рождение ребёнка становится способом «заполнить пустоту» — неосознанным действием под влиянием эмоций, давления или гормонов.
При этом подросток остаётся ребёнком — зависимым от родителей и неспособным самостоятельно нести взрослую ответственность. Он уже родитель, но ещё не готов к взрослой жизни ни финансово, ни юридически.
При этом подросток остаётся ребёнком — зависимым от родителей и неспособным самостоятельно нести взрослую ответственность. Он уже родитель, но ещё не готов к взрослой жизни ни финансово, ни юридически.
Некоторые участники объясняют подростковую беременность тем, что некоторым просто положено рожать рано, будто это часть их природы. Это суждение строится на стигме: такие девушки считаются необразованными, безответственными и неспособными к самоконтролю.
Так формируется граница между «нами» — разумными, планирующими, и «ими» — импульсивными и недальновидными. Такая логика снижает ожидания от подростков из уязвимых групп и делает раннее родительство для них будто бы единственным доступным вариантом жизни.
Так формируется граница между «нами» — разумными, планирующими, и «ими» — импульсивными и недальновидными. Такая логика снижает ожидания от подростков из уязвимых групп и делает раннее родительство для них будто бы единственным доступным вариантом жизни.
Распределение ответственности и паттерны семейных отношений
По вопросу о том, кто несет ответственность за подростковую беременность, мнения участников исследования разделились: молодёжь чаще обвиняет самих подростков в безответственности, а старшее поколение — родителей, которые не выстроили доверительные отношения или чрезмерно ограничивали детей. Большинство сходится на том, что ответственность лежит и на подростках, и на взрослых.
Роли при этом гендерно разделены: от отца ожидается, что он станет «добытчиком», обеспечит семью, начнёт работать. Строго говоря, участие в воспитании — весьма факультативная задача для молодого отца. От молодых матерей же ожидается полная ответственность и забота.
Роли при этом гендерно разделены: от отца ожидается, что он станет «добытчиком», обеспечит семью, начнёт работать. Строго говоря, участие в воспитании — весьма факультативная задача для молодого отца. От молодых матерей же ожидается полная ответственность и забота.
Все участники признают важность предохранения. Тем не менее, информанты зачастую подчеркивают, что ответственность за защиту от нежелательной беременности ложится на девушку. Именно ей нужно сказать «нет», если партнёр предлагает секс без защиты, именно она должна думать о возможном зачатии.
Парней видят скорее как источник риска, а не как равноправных участников. Хотя формально мужчинам приписывают обязанность использовать презерватив, идея о том, что мужчина должен предохраняться, которую высказывают и мужчины в рамках исследования, не находит отражения в статистике: по данным за 2021 год, самый частый метод предохранения от беременности в России — прерванный половой акт. Это означает, что несмотря на нормативность идеи предохранения с помощью контрацептивов, акторы, «чей орган» подлежит контролю, не находят достаточных оснований — или находят достаточно оснований не — реализовывать ее на практике.
Парней видят скорее как источник риска, а не как равноправных участников. Хотя формально мужчинам приписывают обязанность использовать презерватив, идея о том, что мужчина должен предохраняться, которую высказывают и мужчины в рамках исследования, не находит отражения в статистике: по данным за 2021 год, самый частый метод предохранения от беременности в России — прерванный половой акт. Это означает, что несмотря на нормативность идеи предохранения с помощью контрацептивов, акторы, «чей орган» подлежит контролю, не находят достаточных оснований — или находят достаточно оснований не — реализовывать ее на практике.
Хотя беременность подростка затрагивает всю семью, решение о её прерывании респонденты единогласно отдают самой девушке. Родители могут поддерживать, но не должны давить или контролировать. Аргументы против аборта чаще основаны не на морали, а на страхах за здоровье и возможное бесплодие, хотя эти опасения не всегда обоснованы.
При этом именно в ситуации беременности к подростку начинают применять взрослые стандарты ответственности, несмотря на то, что в других аспектах девушка все еще воспринимается как незрелая.
При этом именно в ситуации беременности к подростку начинают применять взрослые стандарты ответственности, несмотря на то, что в других аспектах девушка все еще воспринимается как незрелая.
Роль государства в контексте ранней беременности
Информанты считают, что государство не должно запрещать аборты и не должно поощрять раннее материнство. Выплаты беременным школьницам воспринимаются как попытка стимулировать рождаемость, а не как реальная поддержка. Особенно остро это решение критикуют взрослые участники исследования: они считают, что вся забота о ребёнке в итоге ляжет на них.
Подобные меры вызывают недоверие: их сравнивают с «шоколадками», которые могут «подкупить» подростков, не укрепив семью, а наоборот подорвав ценности стабильных отношений и брака. Финансовую помощь респонденты готовы принять как способ сгладить последствия уже наступившей беременности, но не как поощрение.
При этом идея нематериальных преференций вроде дополнительных баллов при поступлении в вузы вызывает особенно негативную реакцию. Молодые мамы не воспринимаются как заслуживающая таких льгот группа, что порождает напряжение и конкуренцию с «нормальными» студентами.
Подобные меры вызывают недоверие: их сравнивают с «шоколадками», которые могут «подкупить» подростков, не укрепив семью, а наоборот подорвав ценности стабильных отношений и брака. Финансовую помощь респонденты готовы принять как способ сгладить последствия уже наступившей беременности, но не как поощрение.
При этом идея нематериальных преференций вроде дополнительных баллов при поступлении в вузы вызывает особенно негативную реакцию. Молодые мамы не воспринимаются как заслуживающая таких льгот группа, что порождает напряжение и конкуренцию с «нормальными» студентами.
Говоря о том, как можно было бы предотвратить нежелательную беременность, информанты всех возрастов вспоминают о половом воспитании. В представлениях информантов можно выделить две доминирующие модели полового воспитания. Первая — информационно-биологическая. Она предполагает знакомство подростков с устройством тела, физиологическими изменениями, связанными с пубертатом.
Вторая модель — дисциплинарно-запугивающая — фокусируется не столько на передаче знаний, сколько на негативных последствиях. В этом случае сексуальность подростка мыслится как потенциально опасная зона, требующая контроля.
Секспросвет может быть разным: от биологических знаний о теле до «шокирующих» рассказов о последствиях. При этом информанты также считают, что профилактика должна происходить и в рамках семьи через открытые, честные разговоры. Но содержание этих разговоров также ограничивается предупреждением и объяснением физиологических последствий, в том числе экономических.
Вторая модель — дисциплинарно-запугивающая — фокусируется не столько на передаче знаний, сколько на негативных последствиях. В этом случае сексуальность подростка мыслится как потенциально опасная зона, требующая контроля.
Секспросвет может быть разным: от биологических знаний о теле до «шокирующих» рассказов о последствиях. При этом информанты также считают, что профилактика должна происходить и в рамках семьи через открытые, честные разговоры. Но содержание этих разговоров также ограничивается предупреждением и объяснением физиологических последствий, в том числе экономических.
Выводы
Наше качественное исследование — четыре фокус-группы с молодёжью 18–27 лет и родителями 30–45 лет, — показало, что ранняя беременность воспринимается информантами как чрезвычайное и аномальное событие, с которым приходится мириться, а не как нормальный жизненный выбор. Позитивные нарративы практически не встречались — чаще звучали попытки осмыслить, как справиться с ситуацией и минимизировать ущерб.
Негативное отношение опирается на четыре основные причины: финансовая нагрузка, которую подросток перекладывает на родителей; восприятие подростковых отношений как временных и неподходящих для создания семьи; «обрыв» жизненной траектории, мешающий образованию и самореализации; и стигматизация, связывающая раннее материнство с социально неблагополучной средой.
Большинство информантов выступают против запрета абортов и критически относятся к выплатам беременным школьницам как способу стимулирования рождаемости. Финансовая помощь допускается как поддержка в трудной ситуации, но попытки «поощрения» подросткового материнства вызывают тревогу — особенно, когда речь идёт о льготах при поступлении, которые воспринимаются как несправедливое преимущество.
Полную версию отчета читайте по кнопке ниже.
Негативное отношение опирается на четыре основные причины: финансовая нагрузка, которую подросток перекладывает на родителей; восприятие подростковых отношений как временных и неподходящих для создания семьи; «обрыв» жизненной траектории, мешающий образованию и самореализации; и стигматизация, связывающая раннее материнство с социально неблагополучной средой.
Большинство информантов выступают против запрета абортов и критически относятся к выплатам беременным школьницам как способу стимулирования рождаемости. Финансовая помощь допускается как поддержка в трудной ситуации, но попытки «поощрения» подросткового материнства вызывают тревогу — особенно, когда речь идёт о льготах при поступлении, которые воспринимаются как несправедливое преимущество.
Полную версию отчета читайте по кнопке ниже.
Благодарим всех, кто принимал участие в исследовании, ознакомился с ним и распространил в средствах массовой информации и социальных сетях!
Поддержать нашу работу можно тут