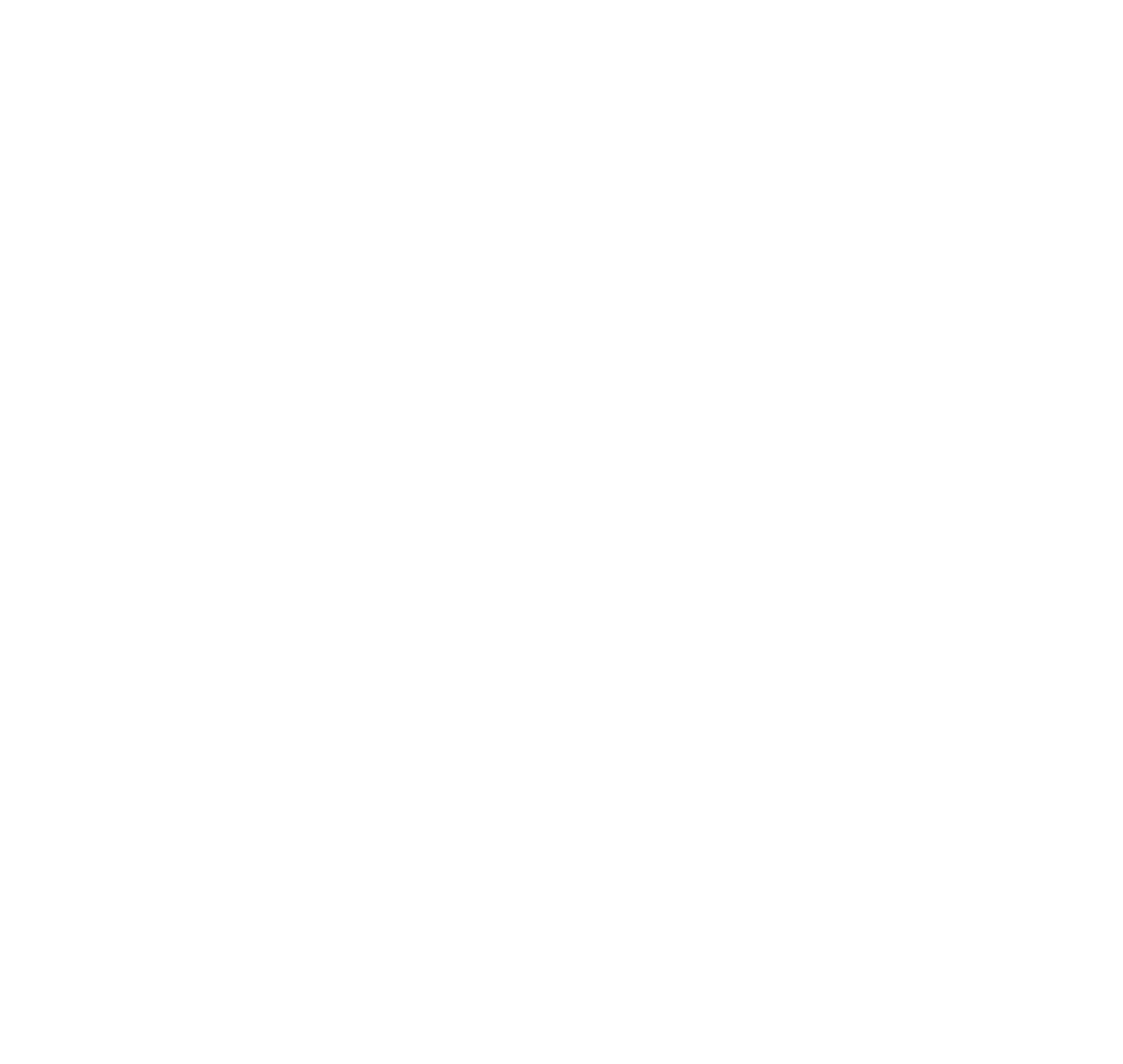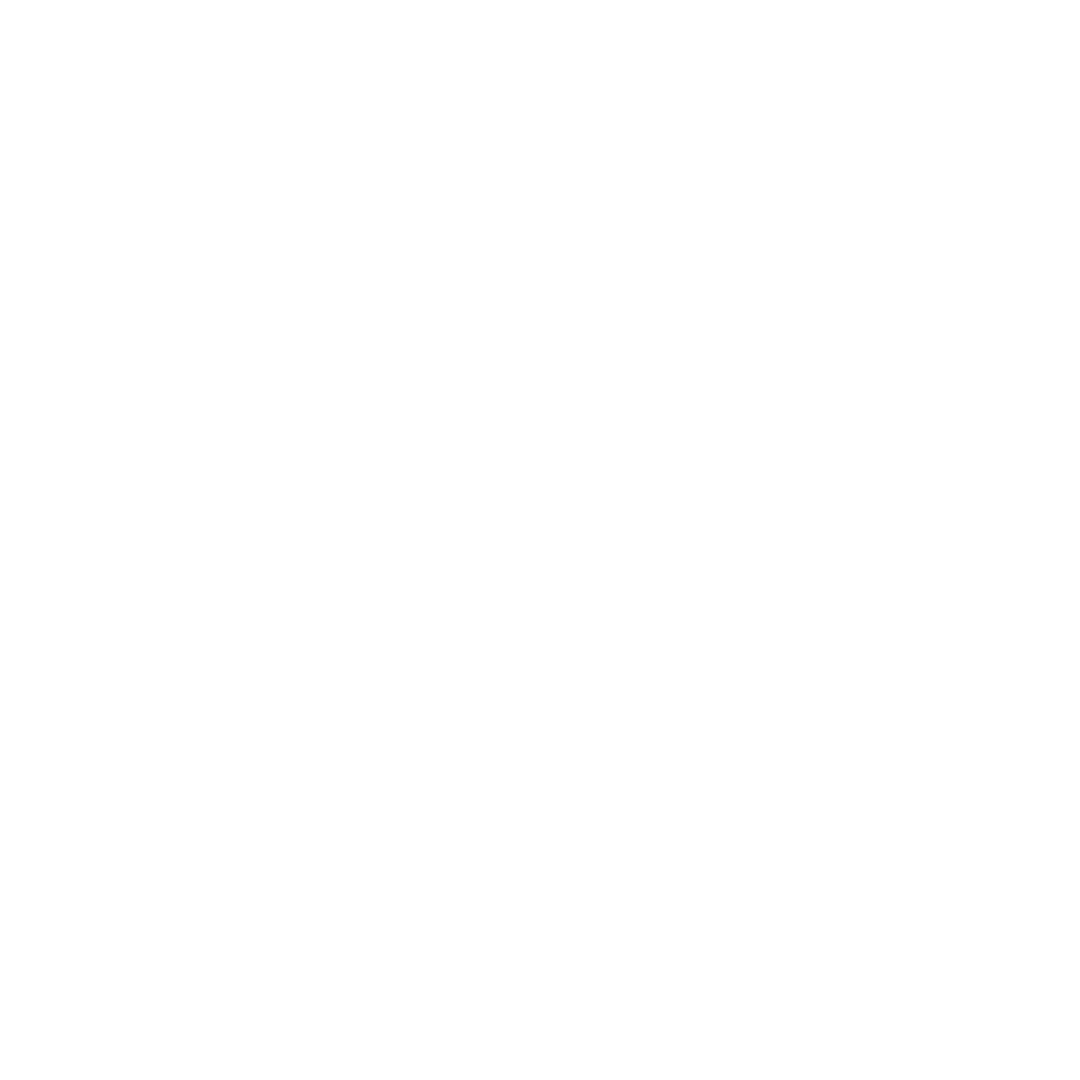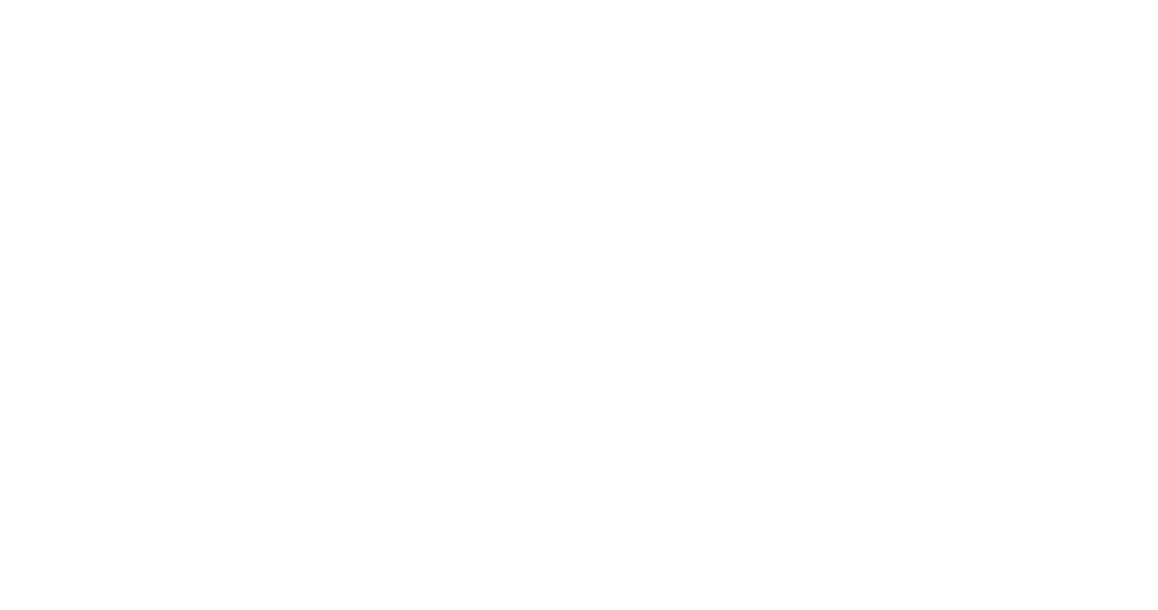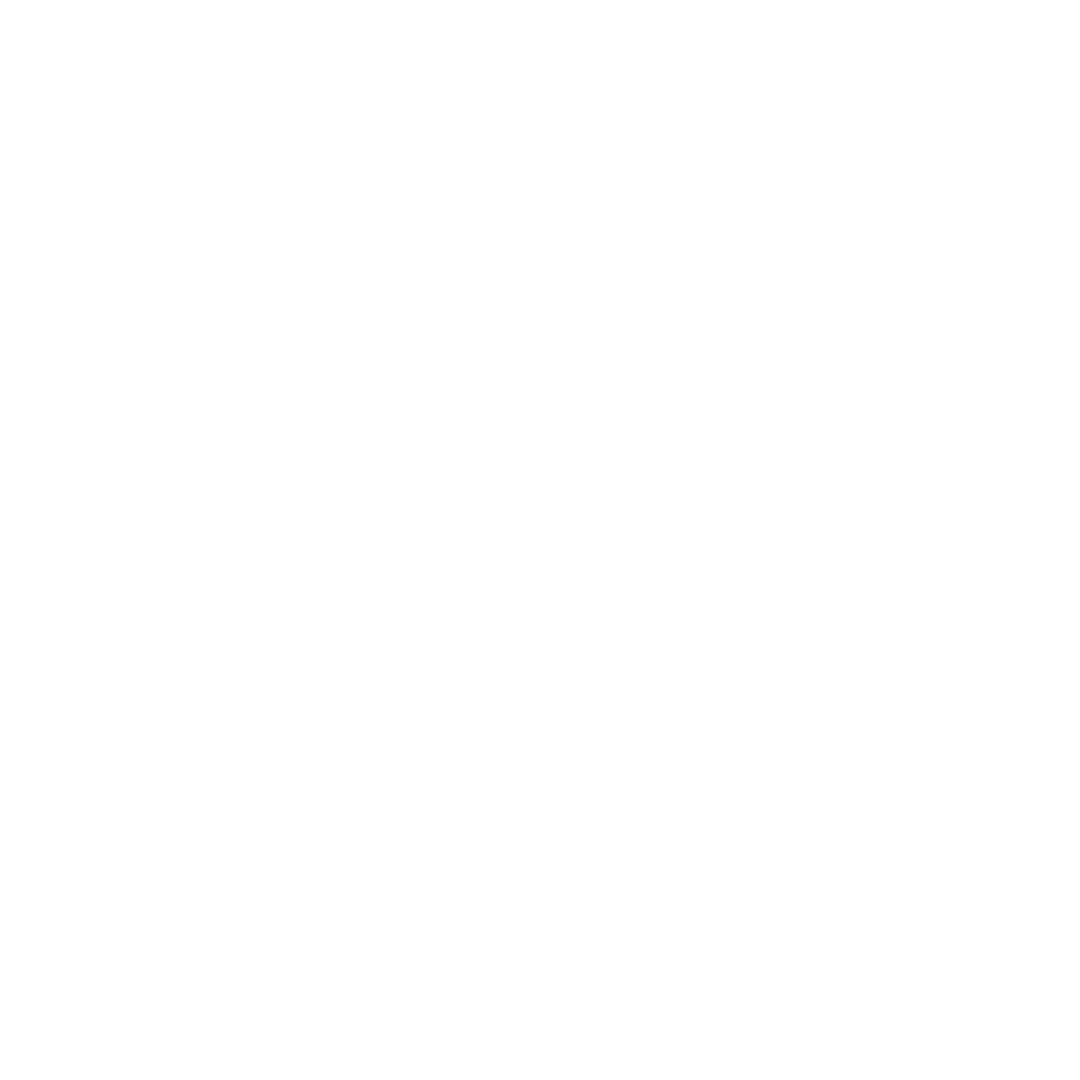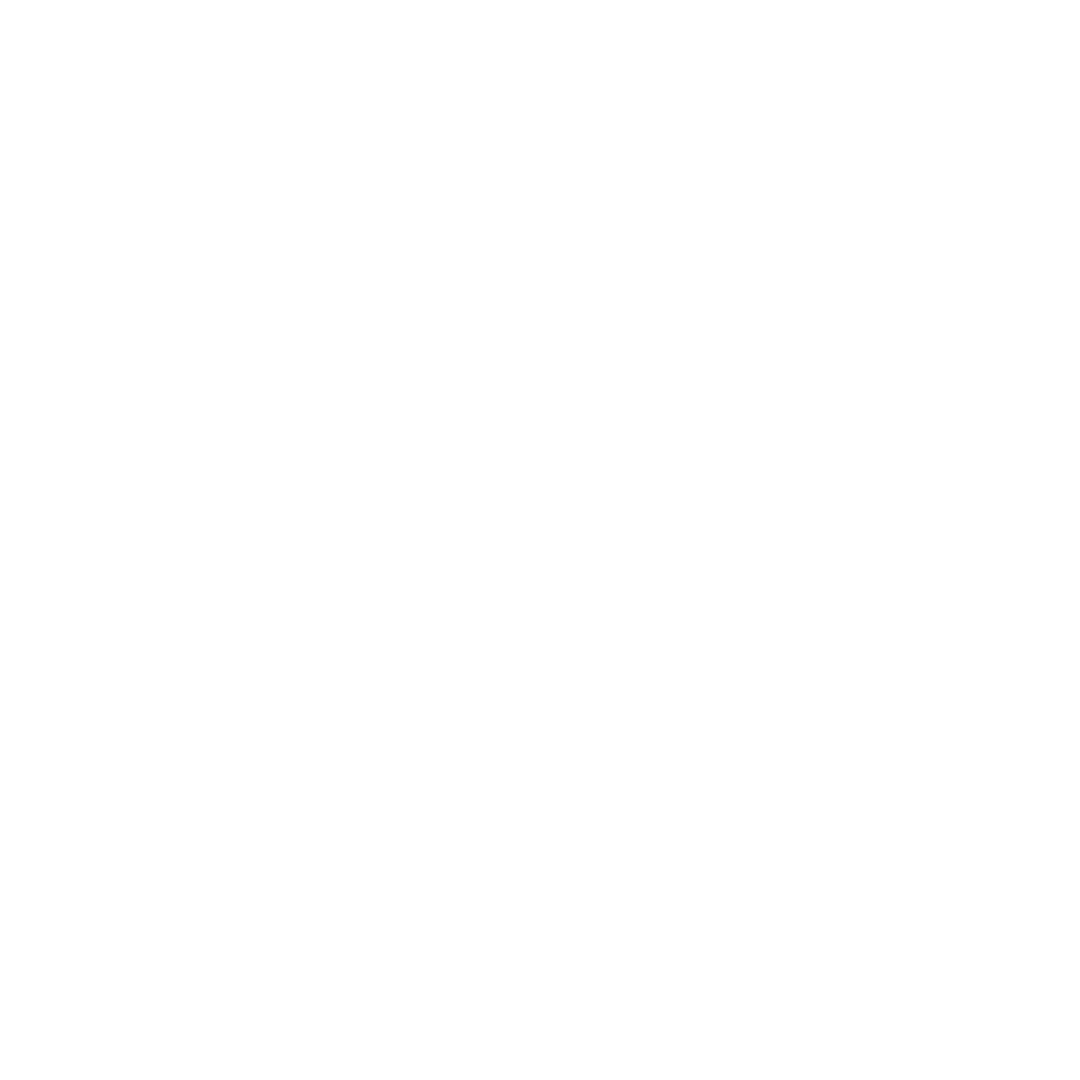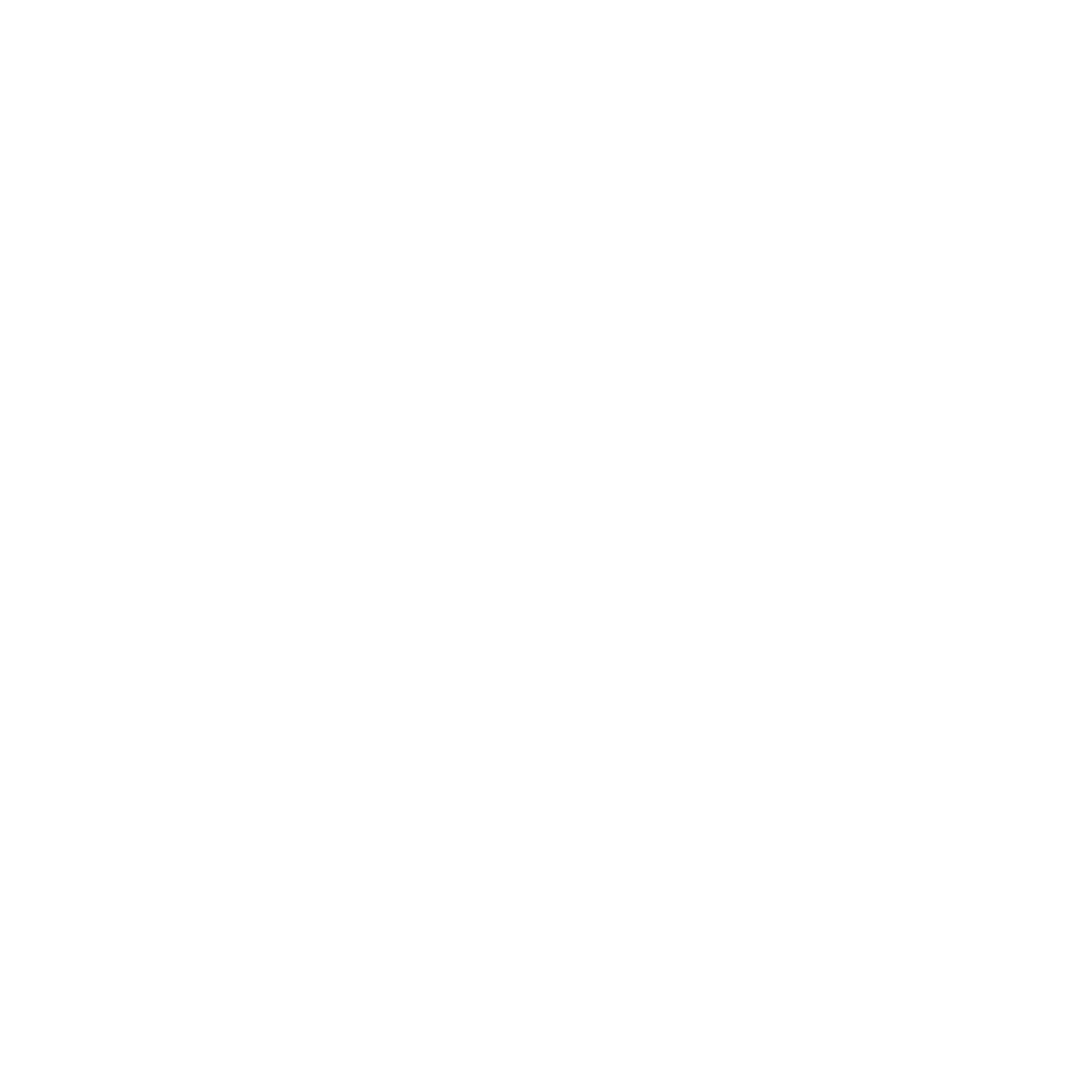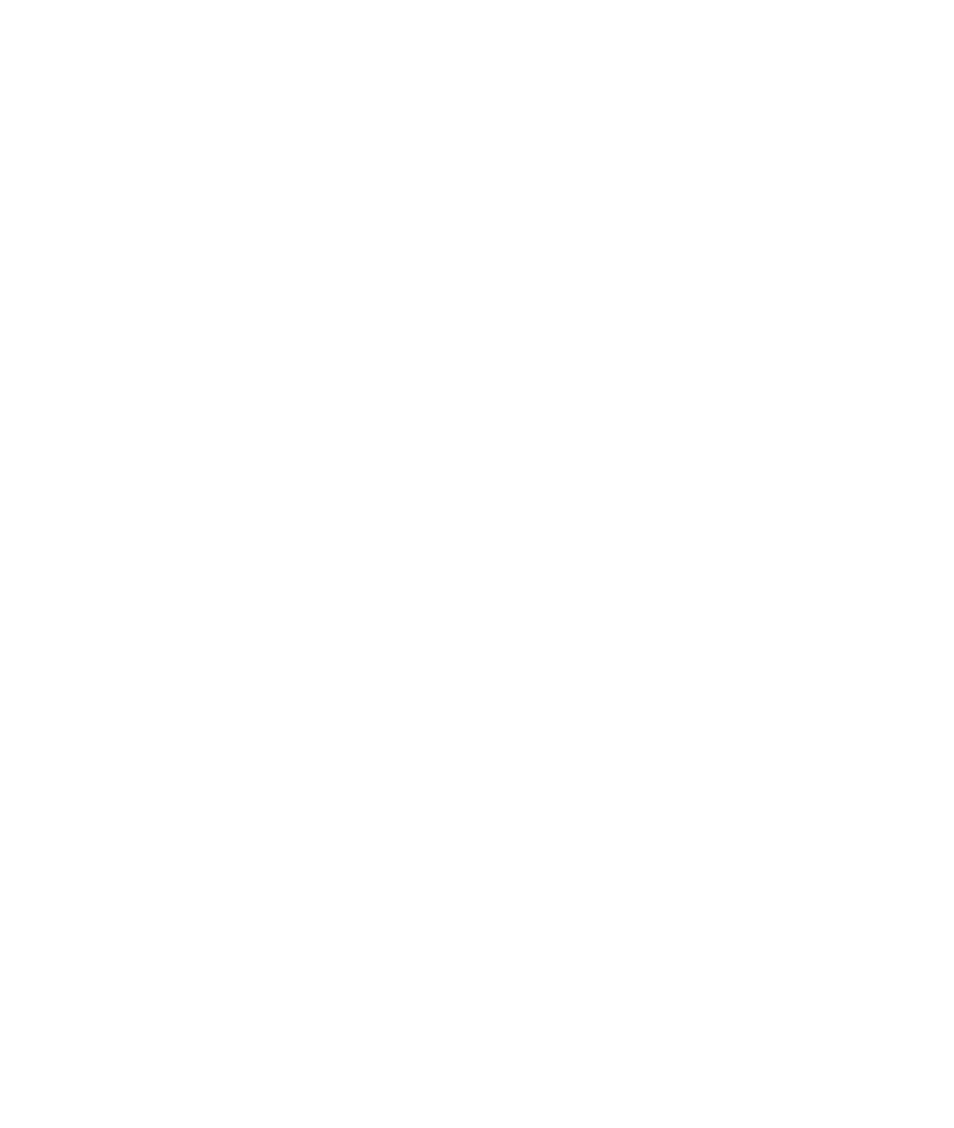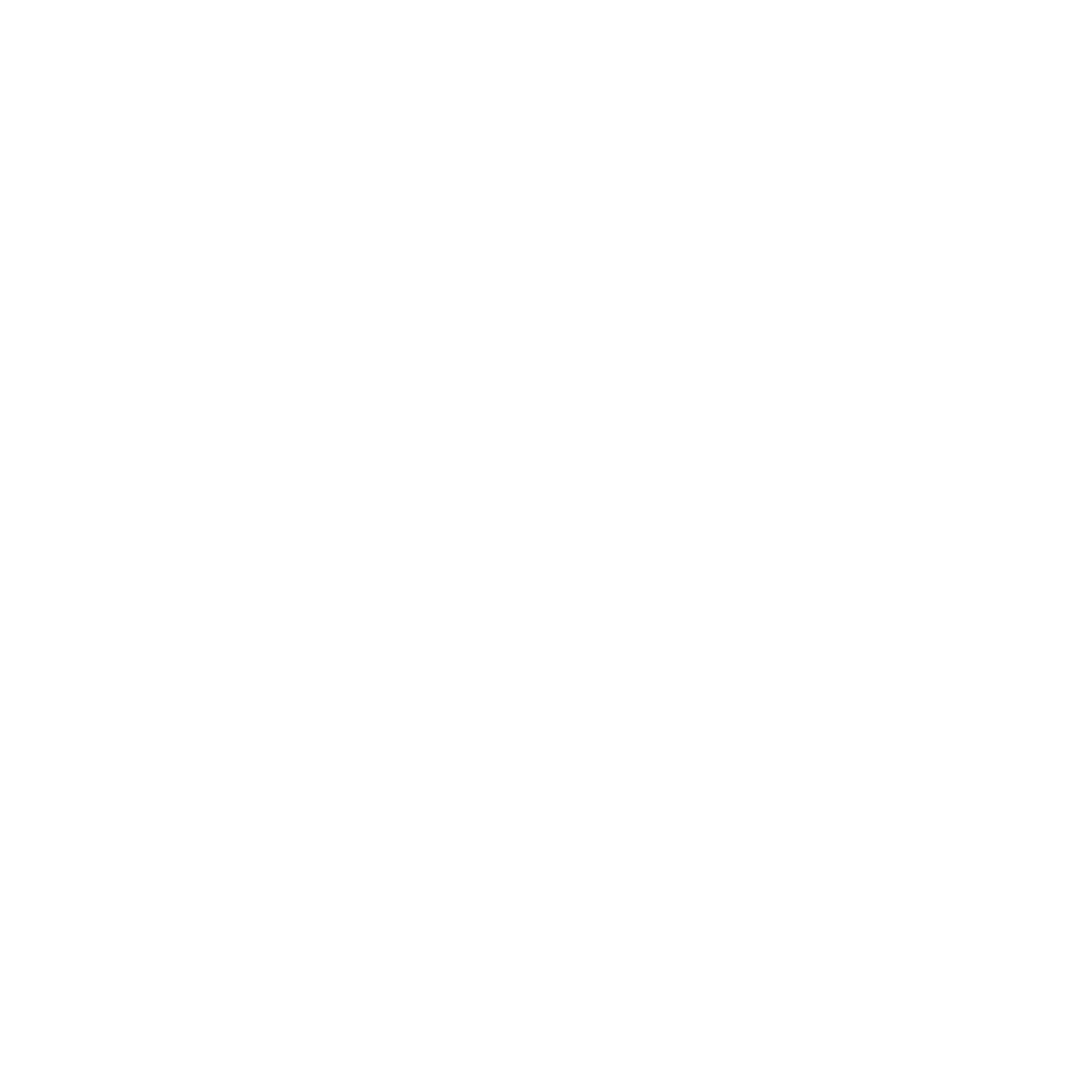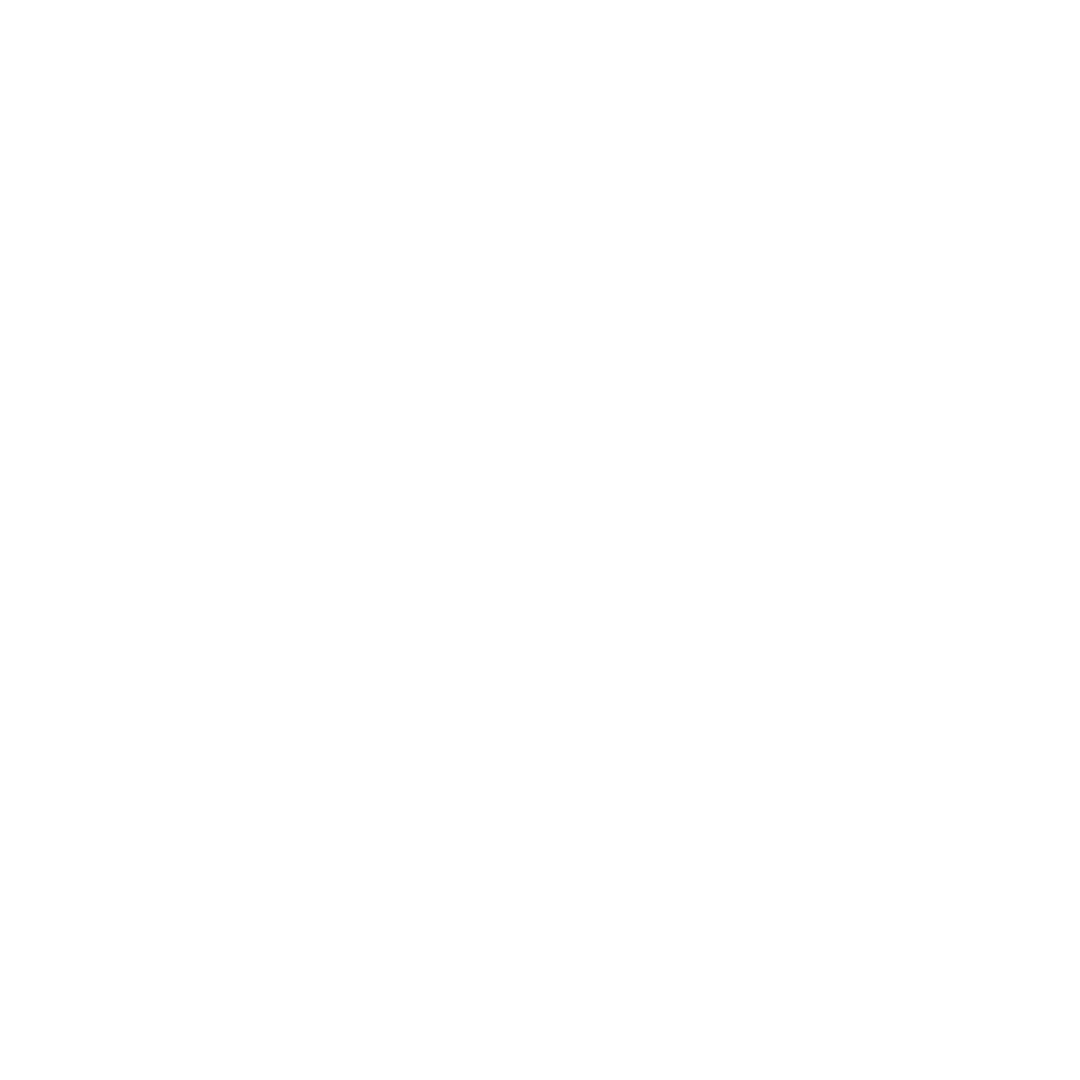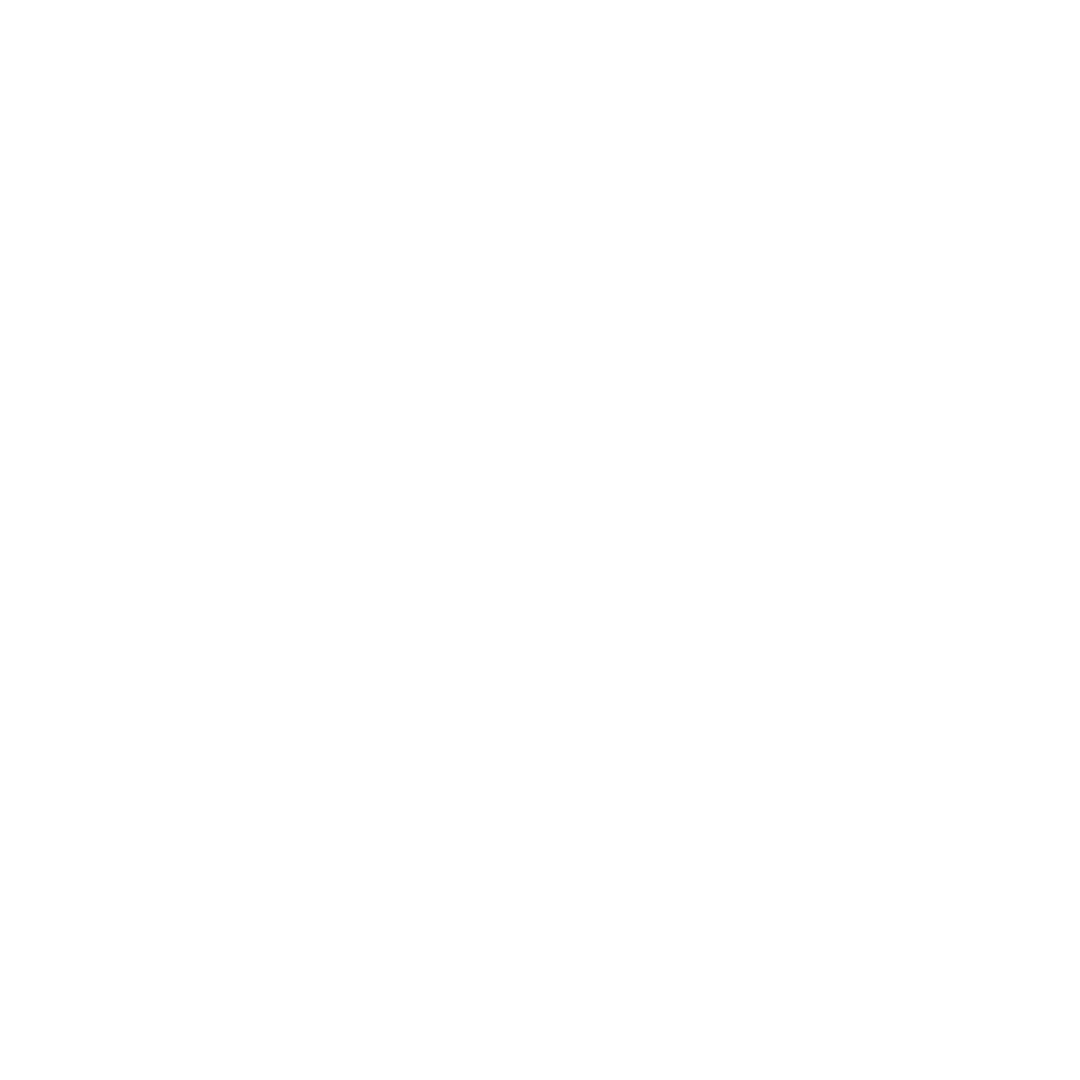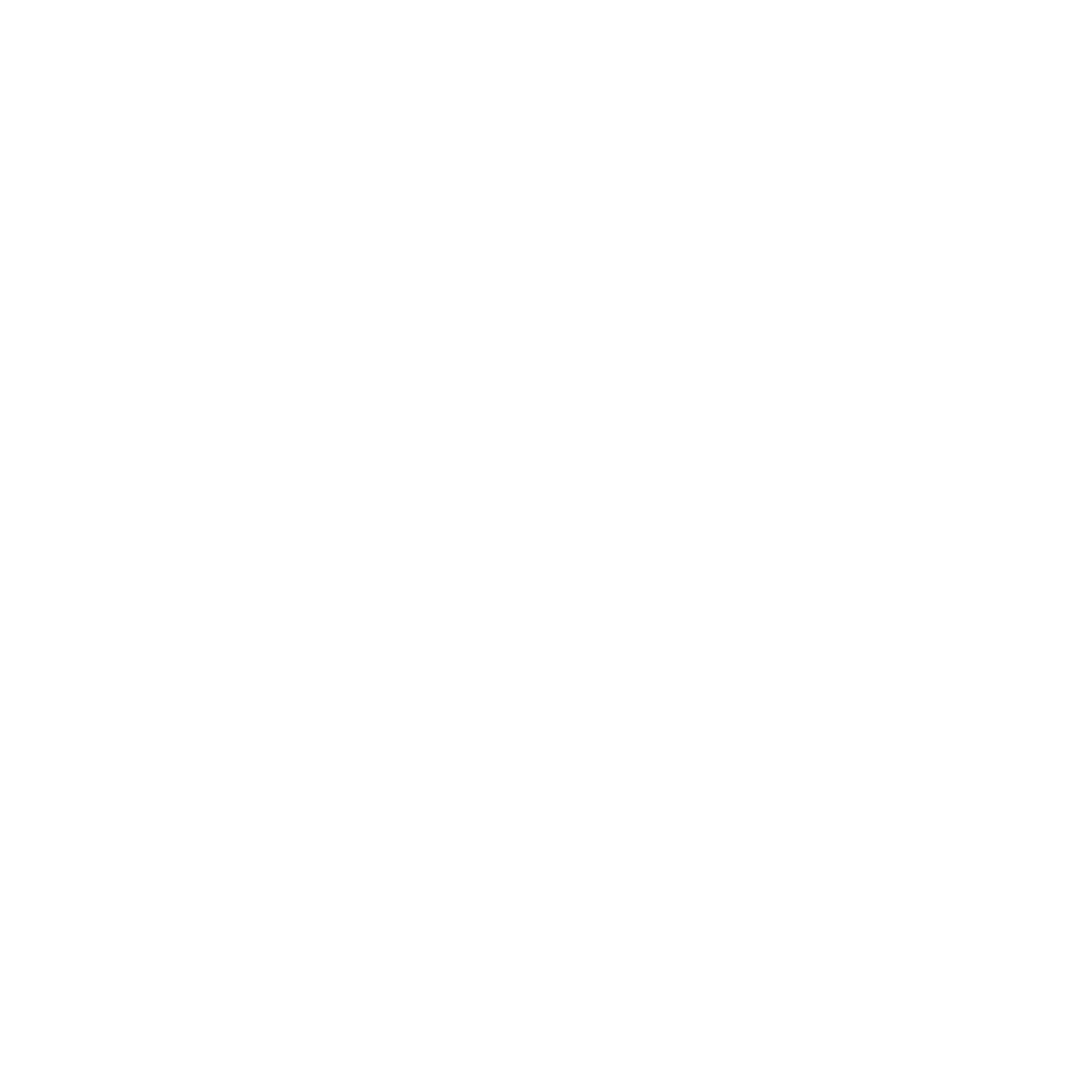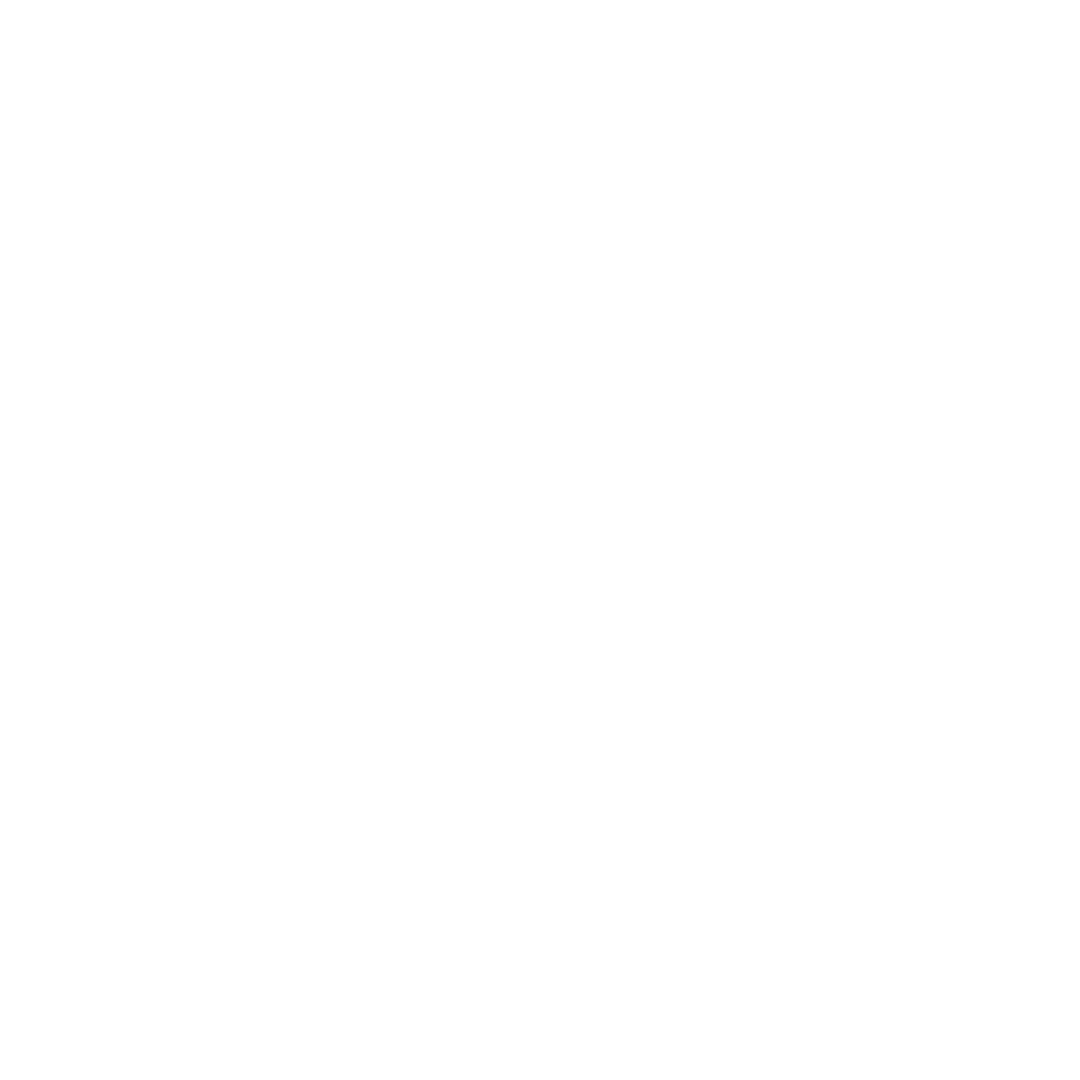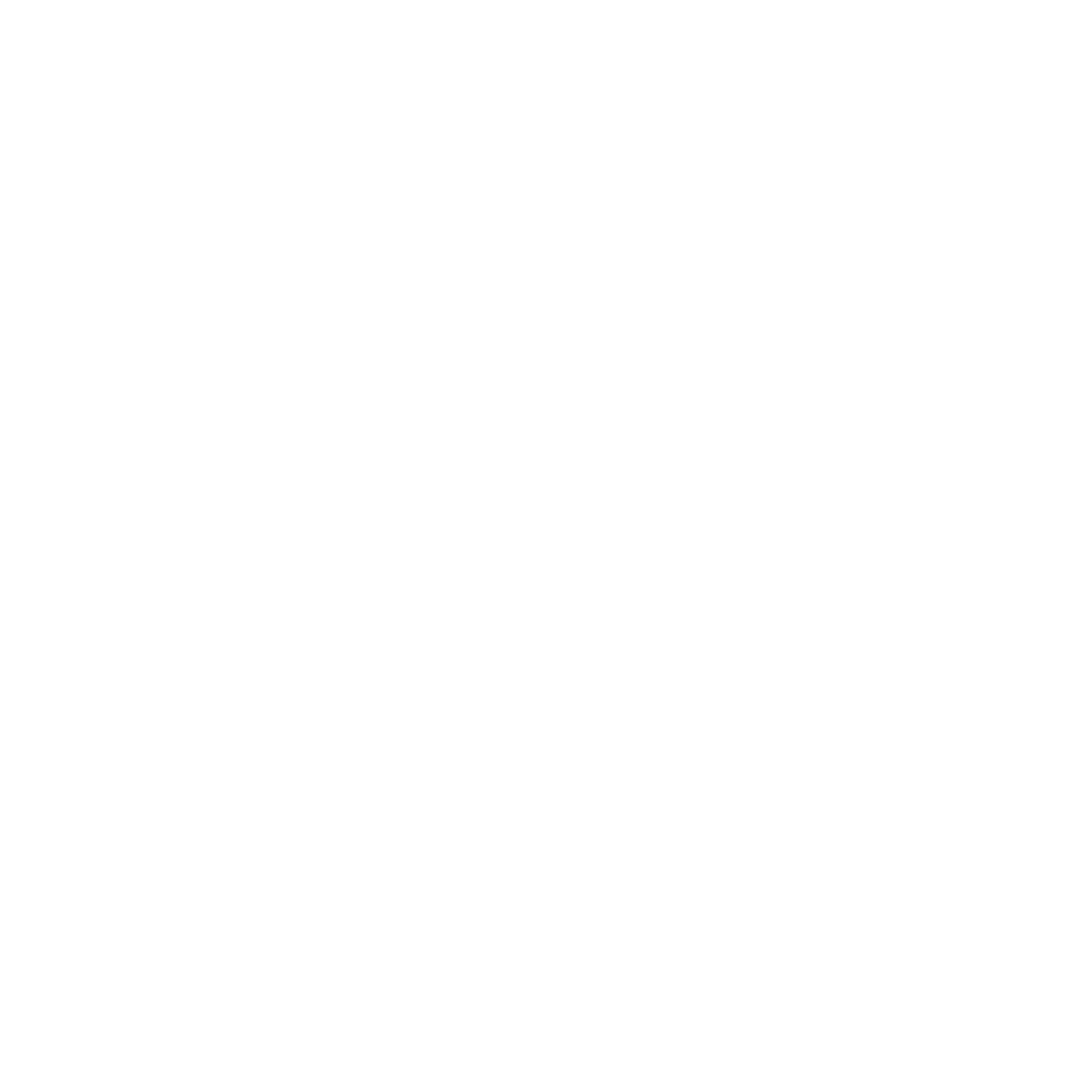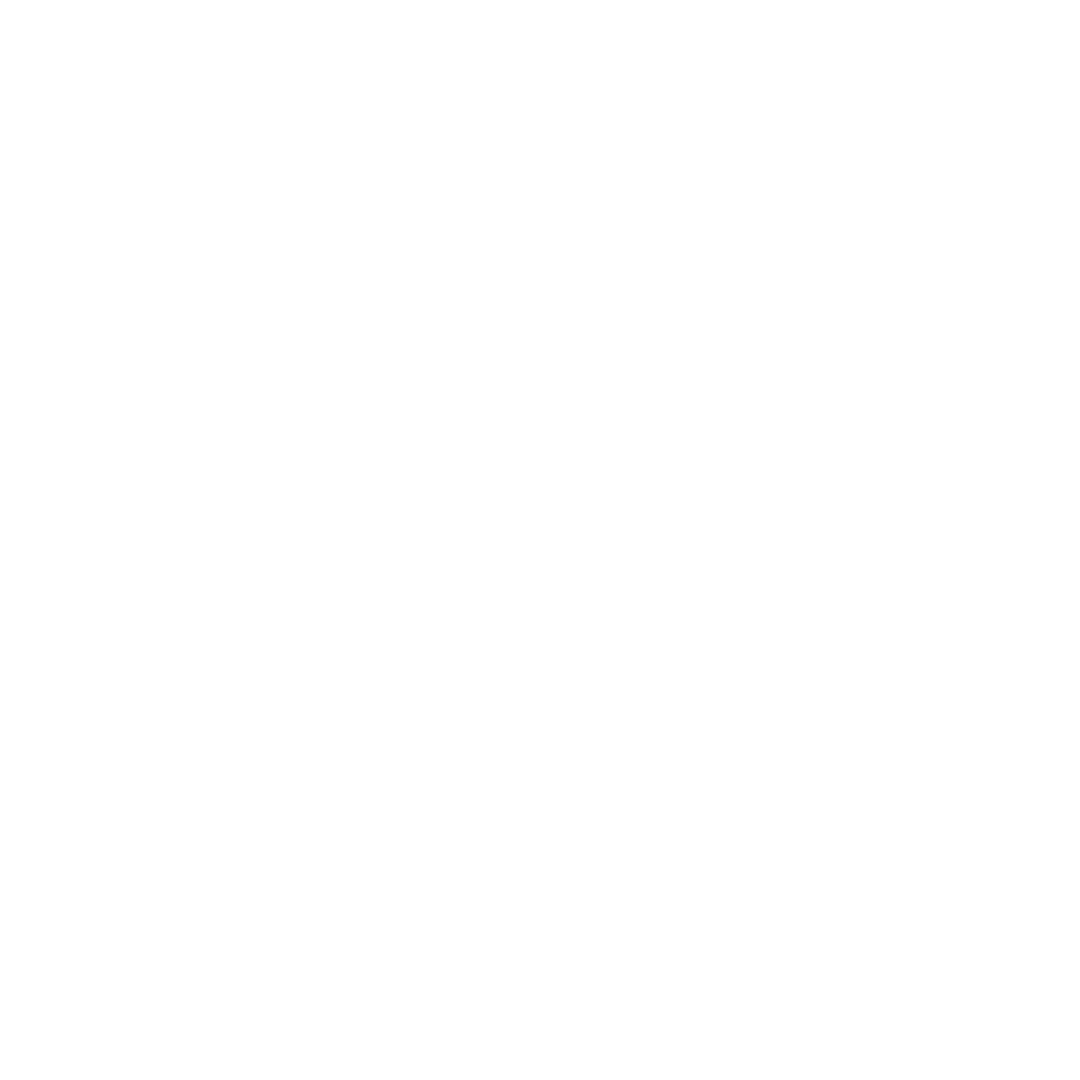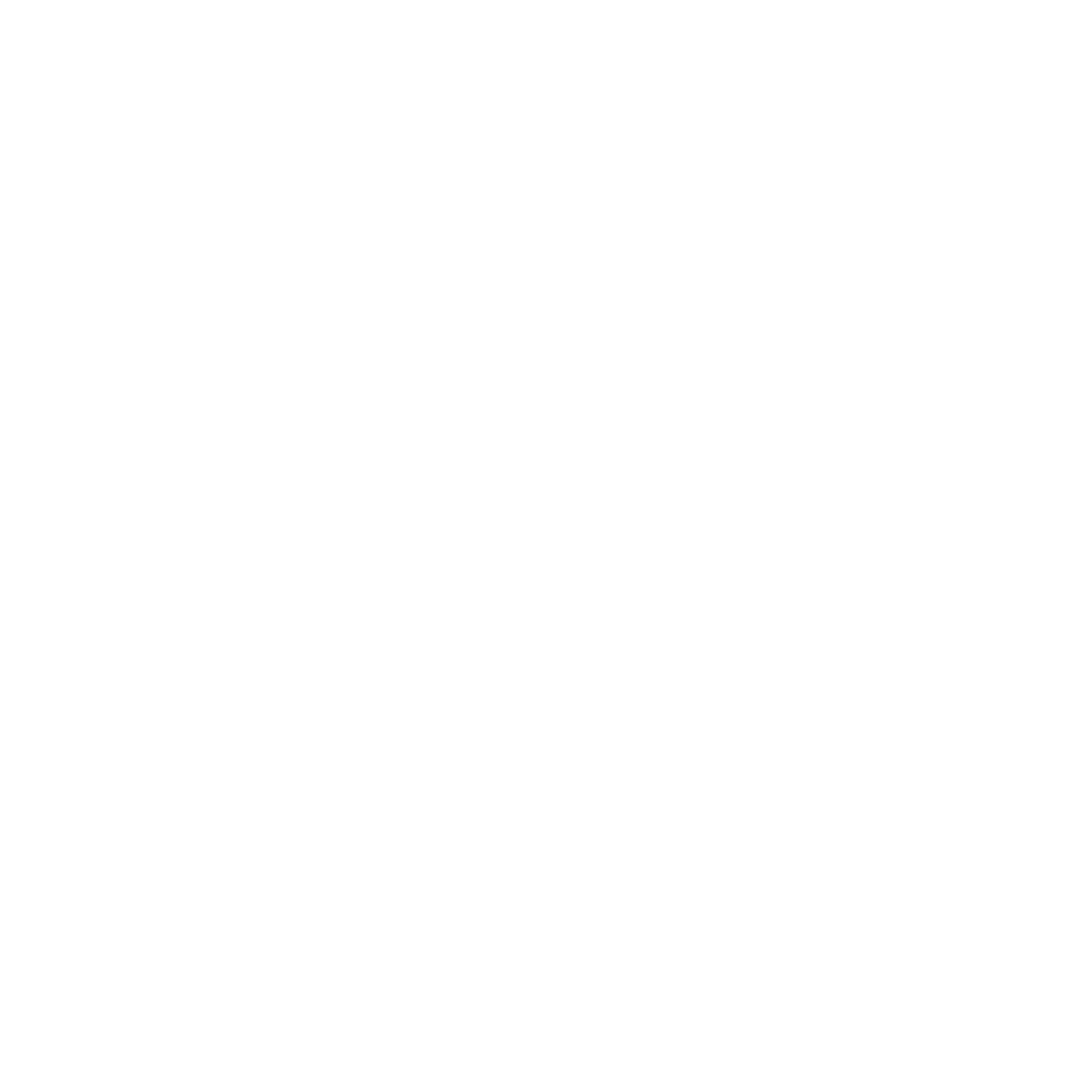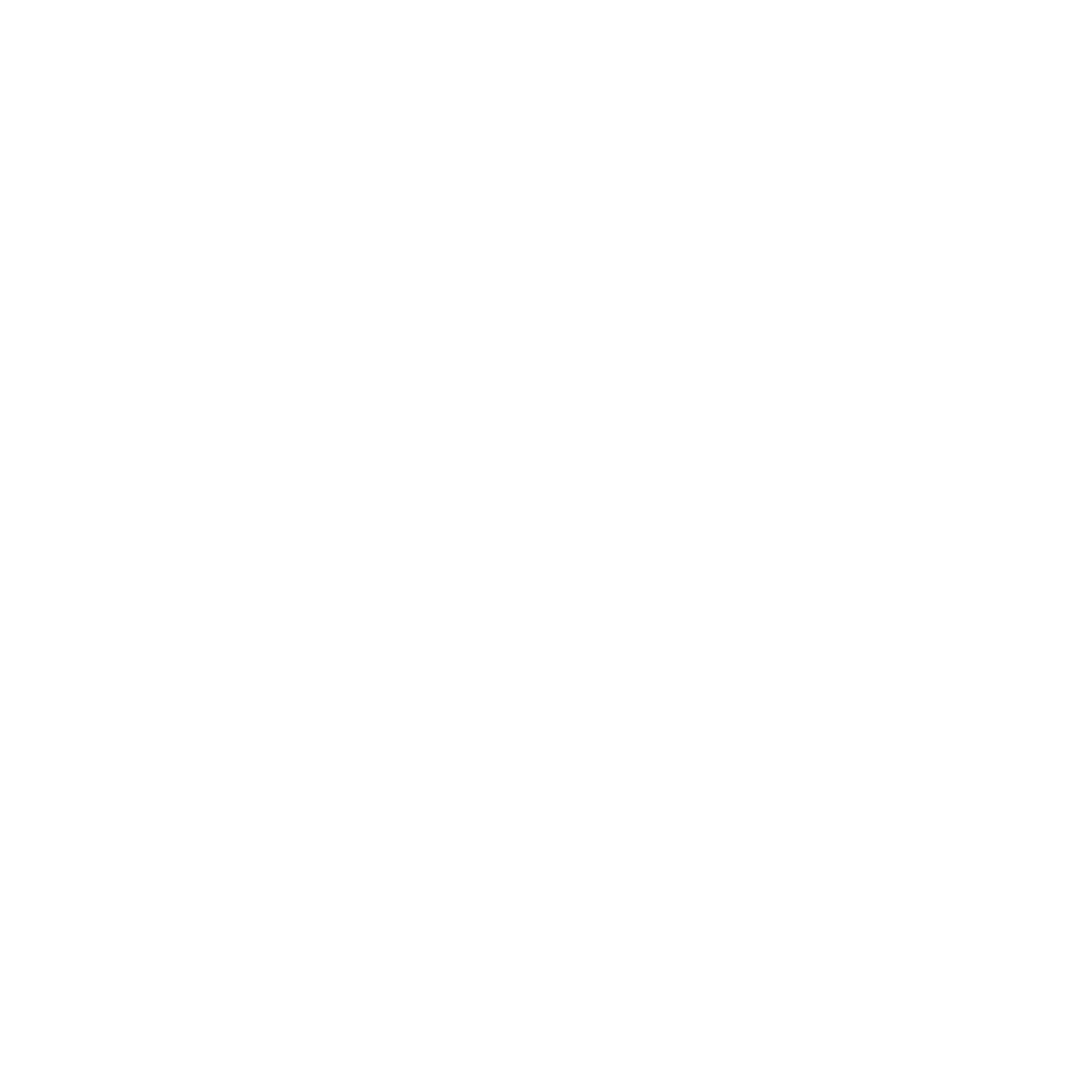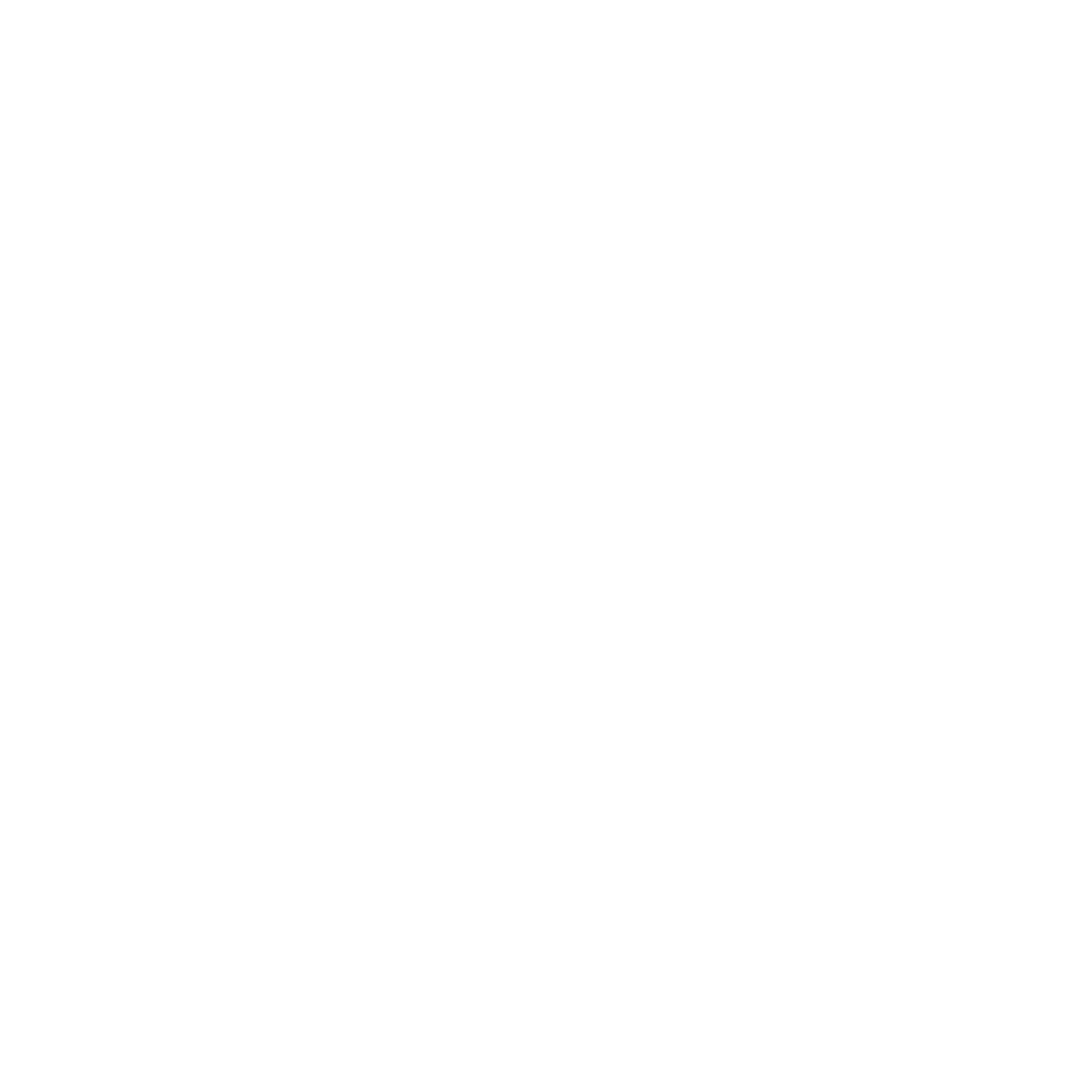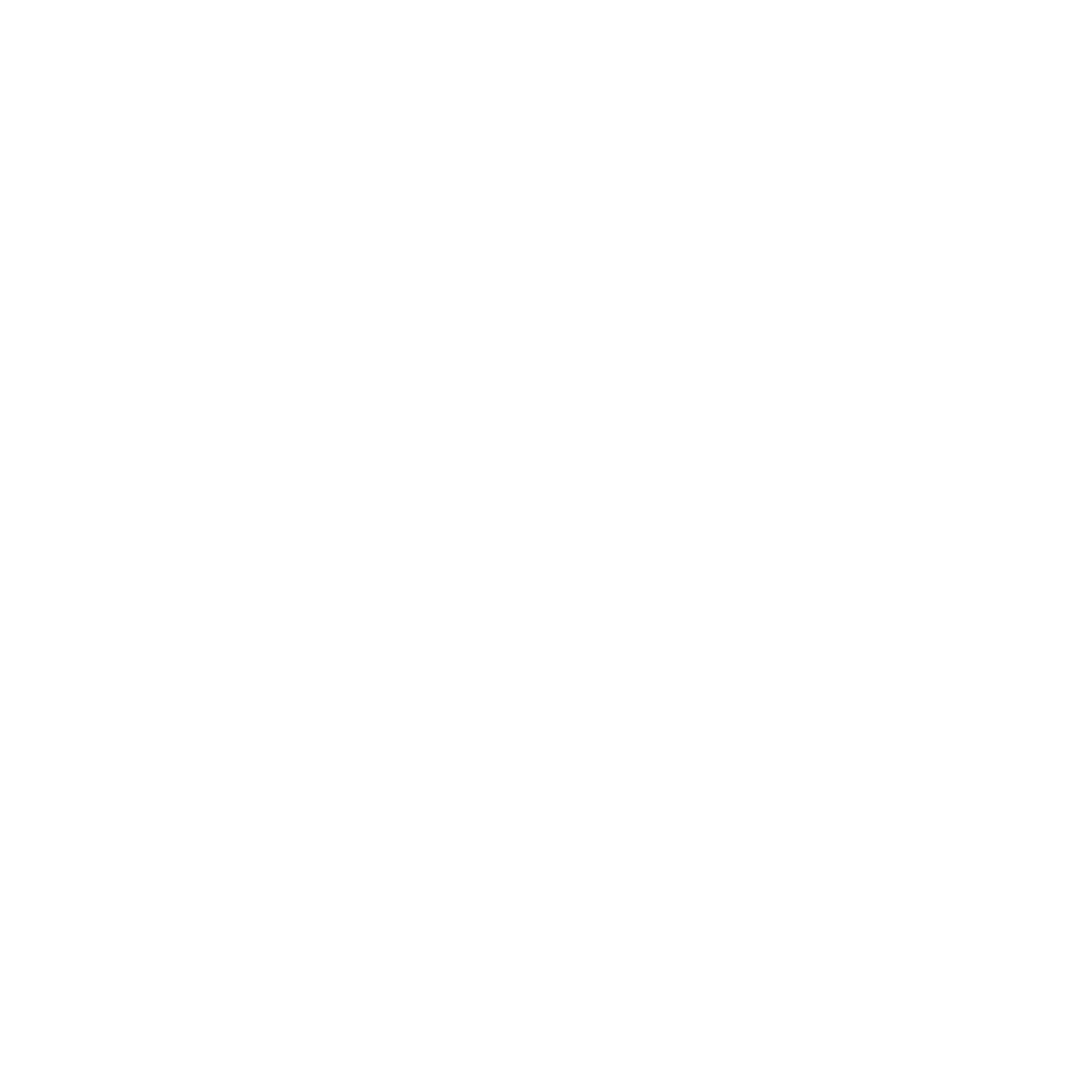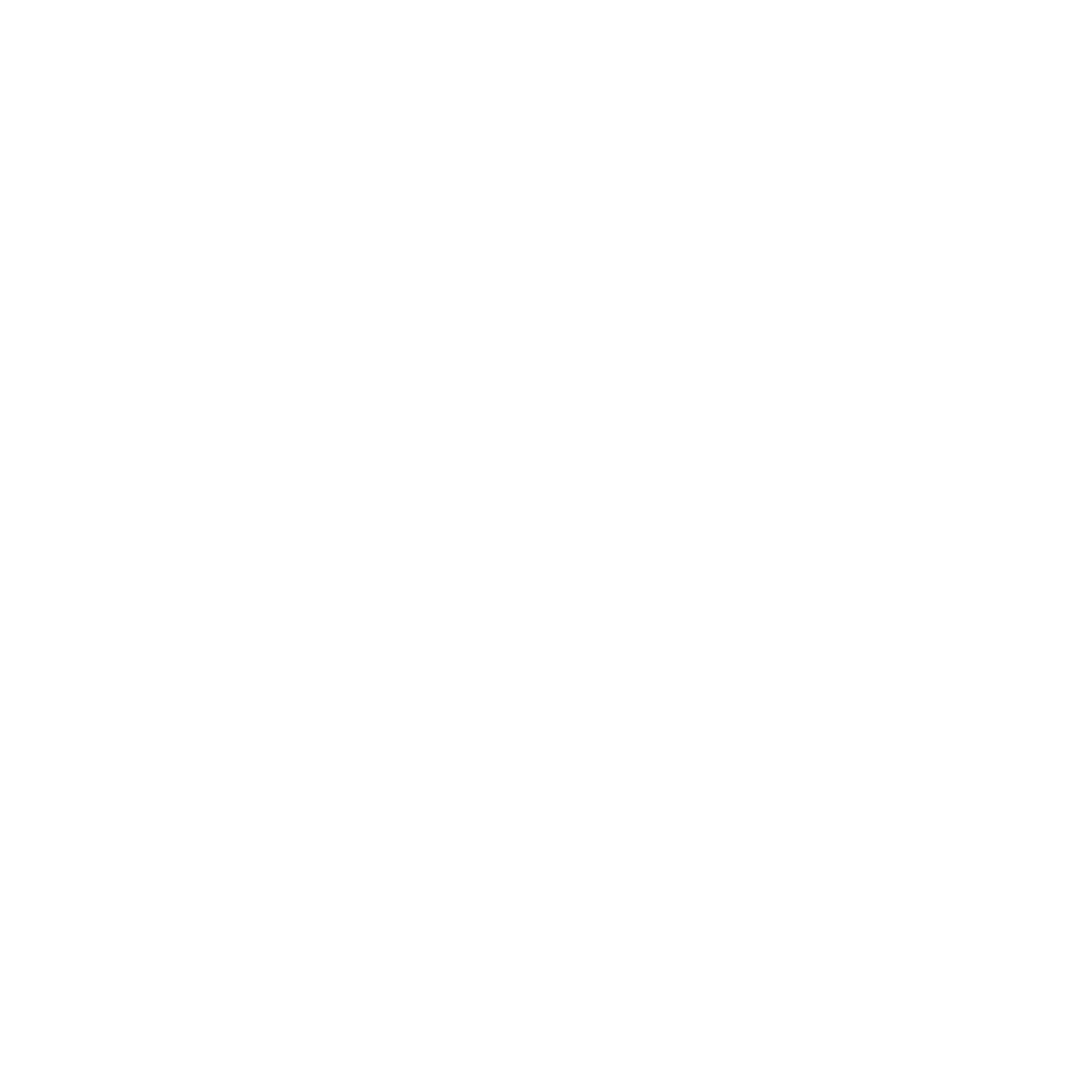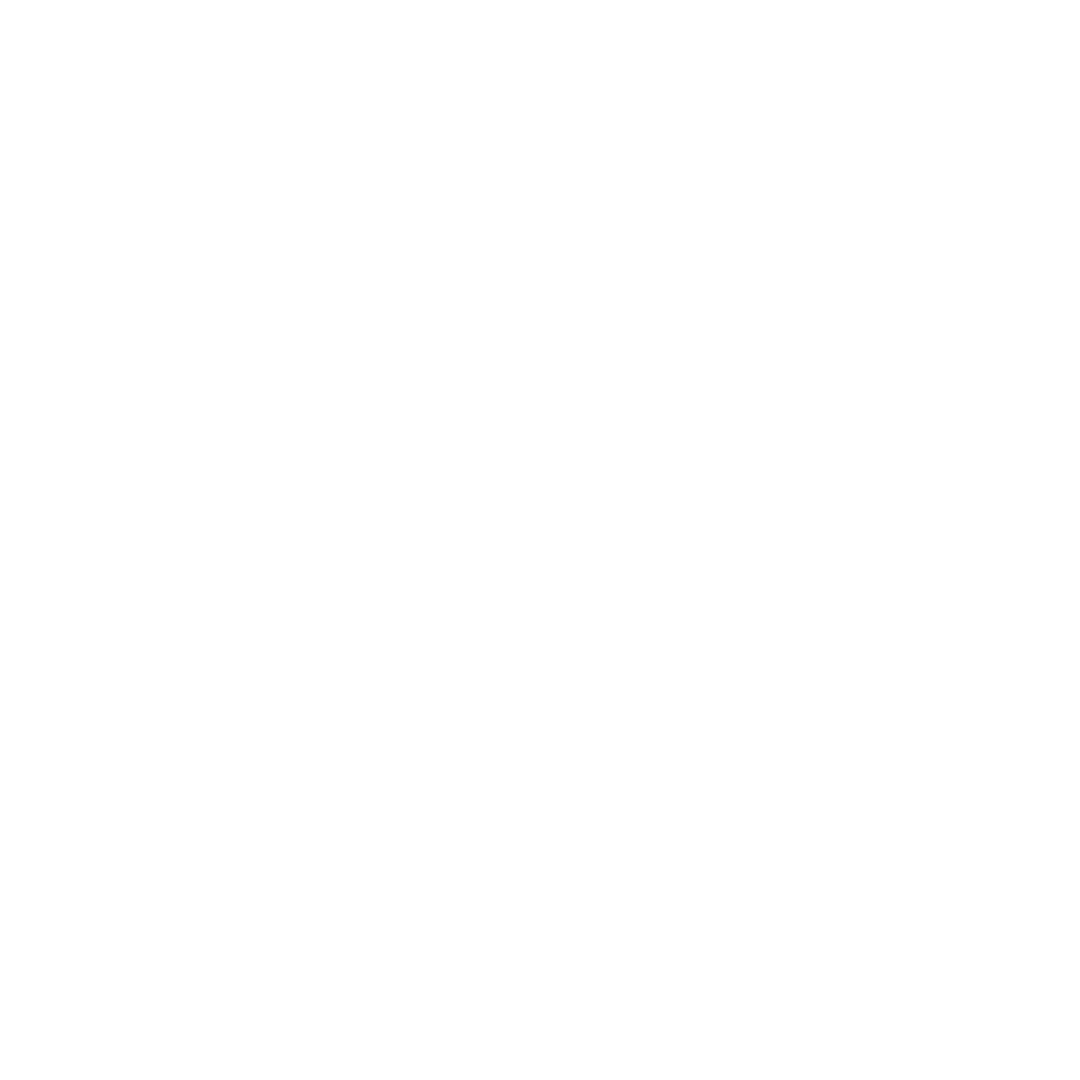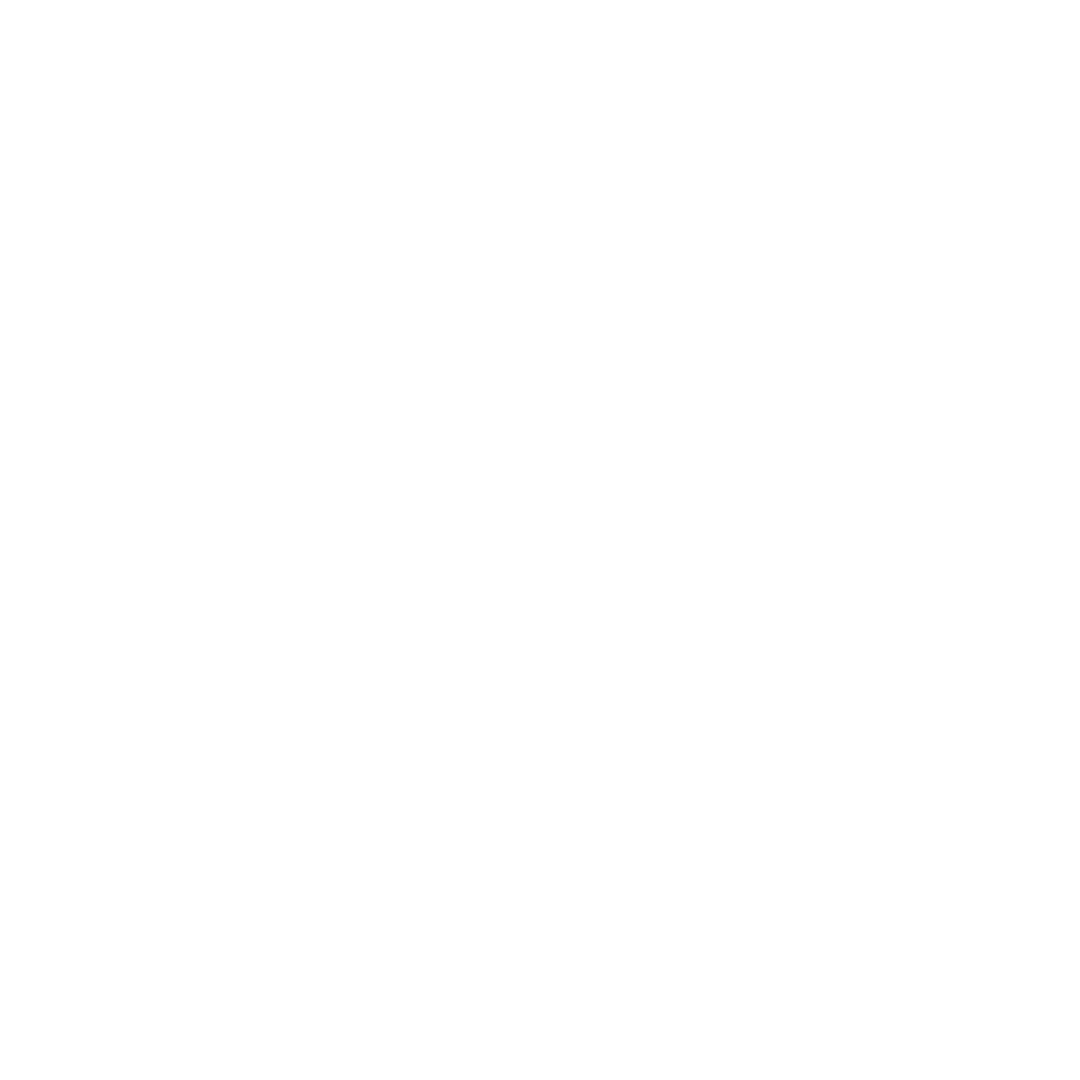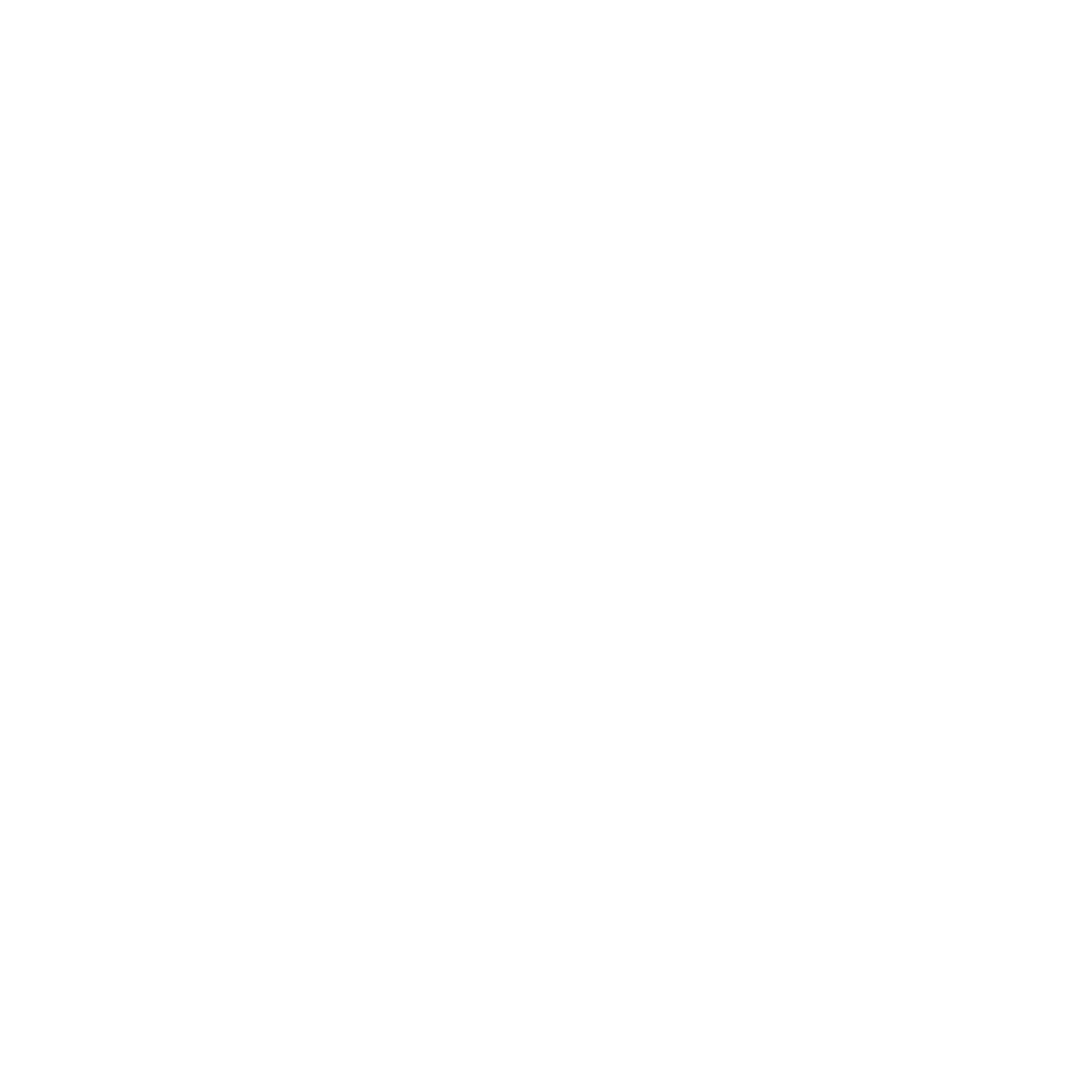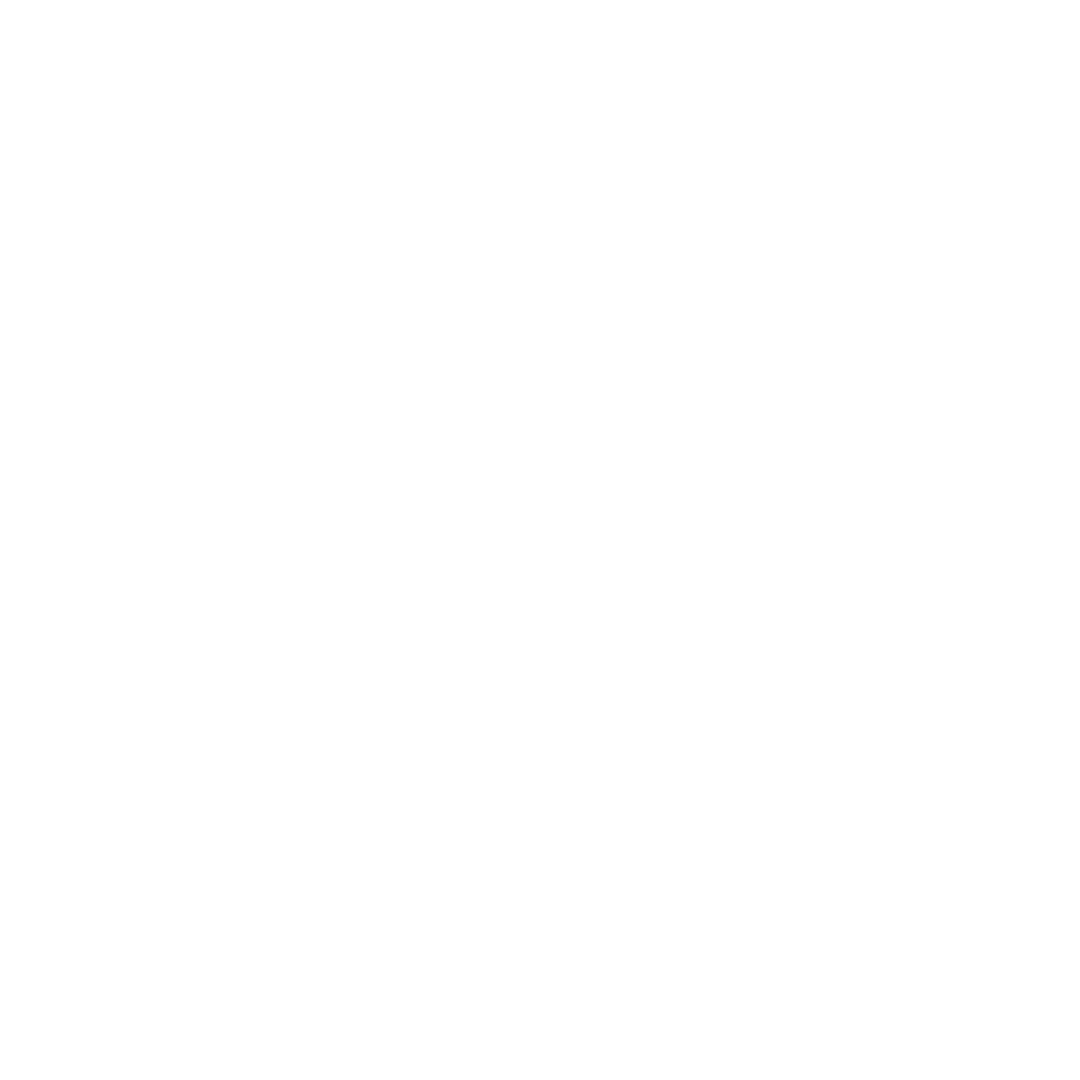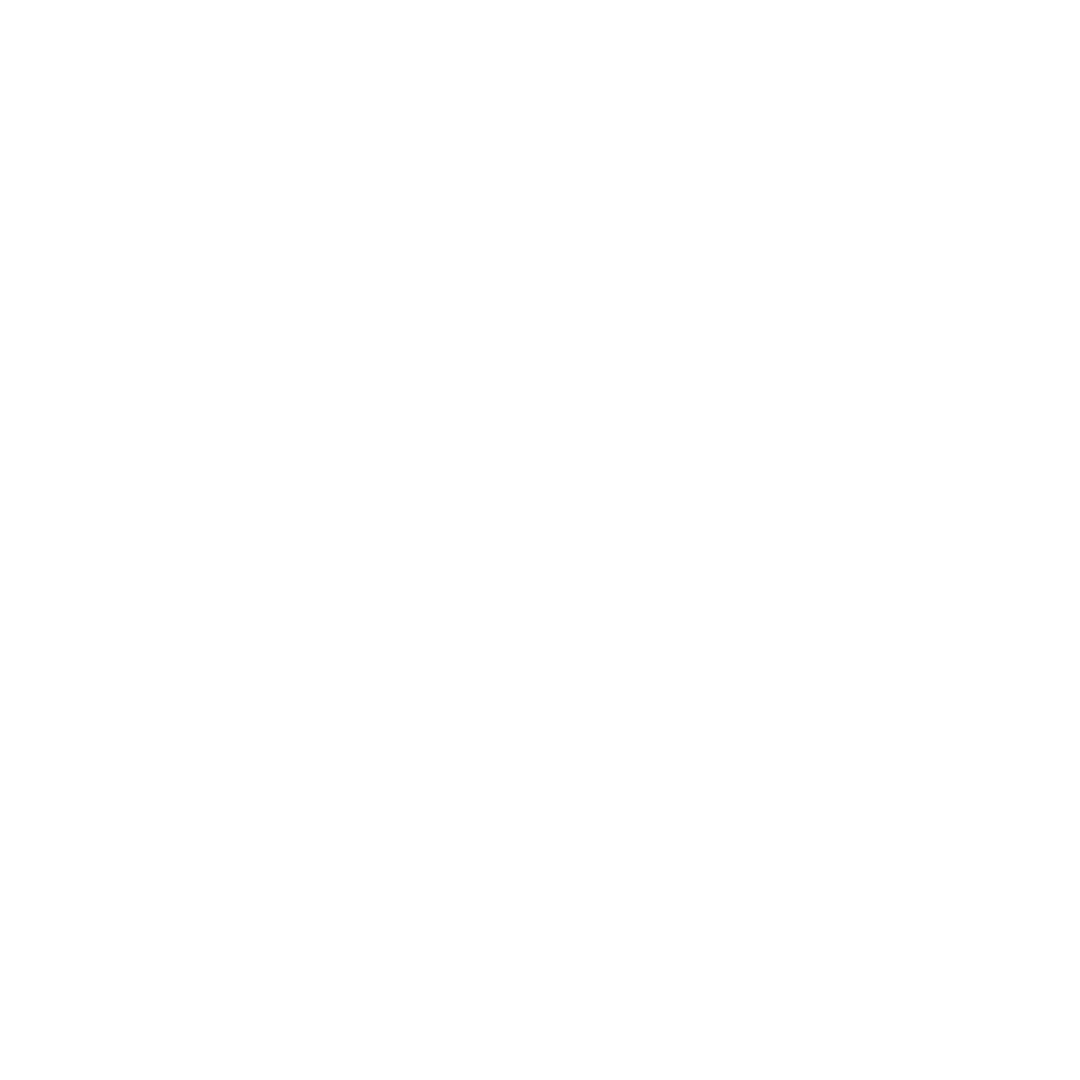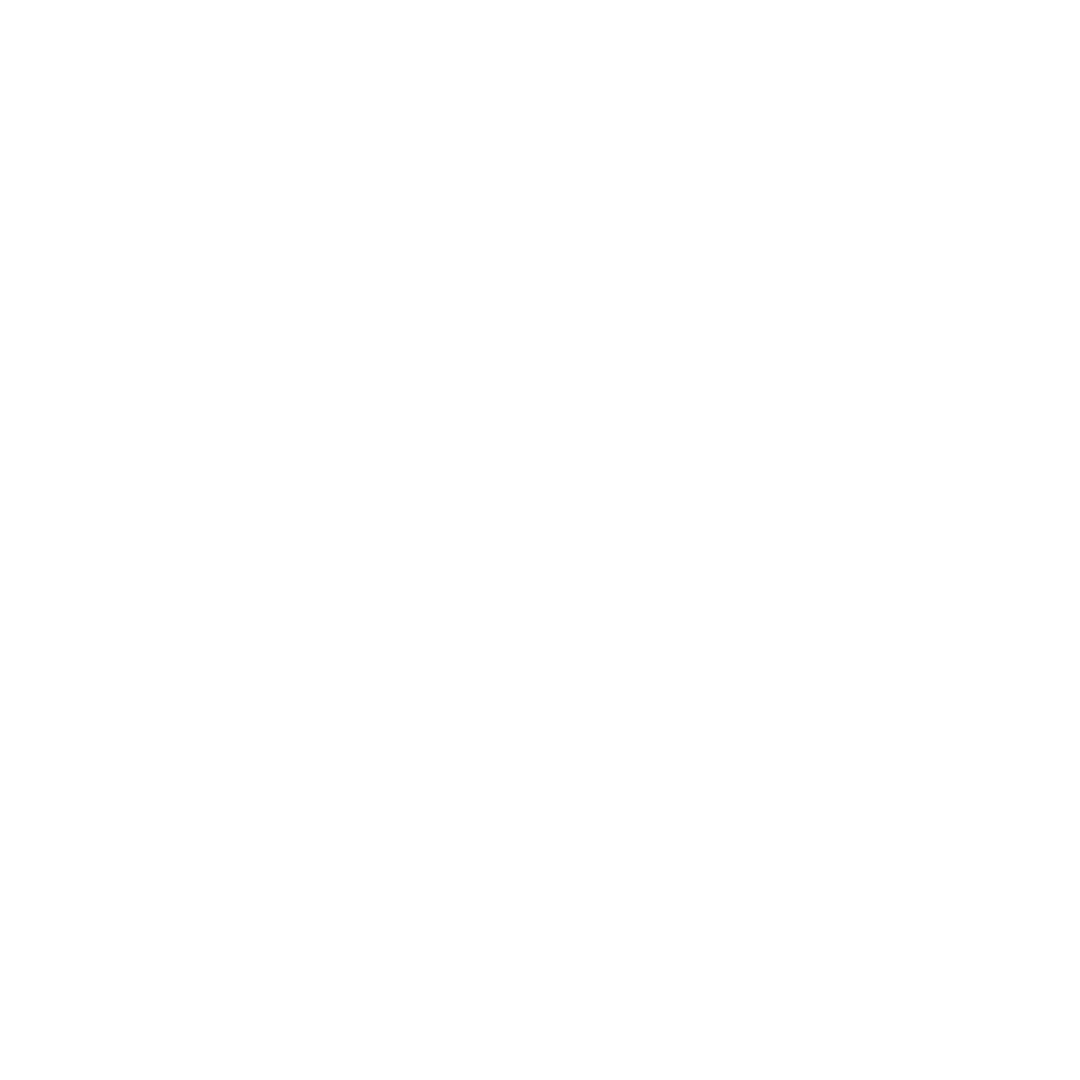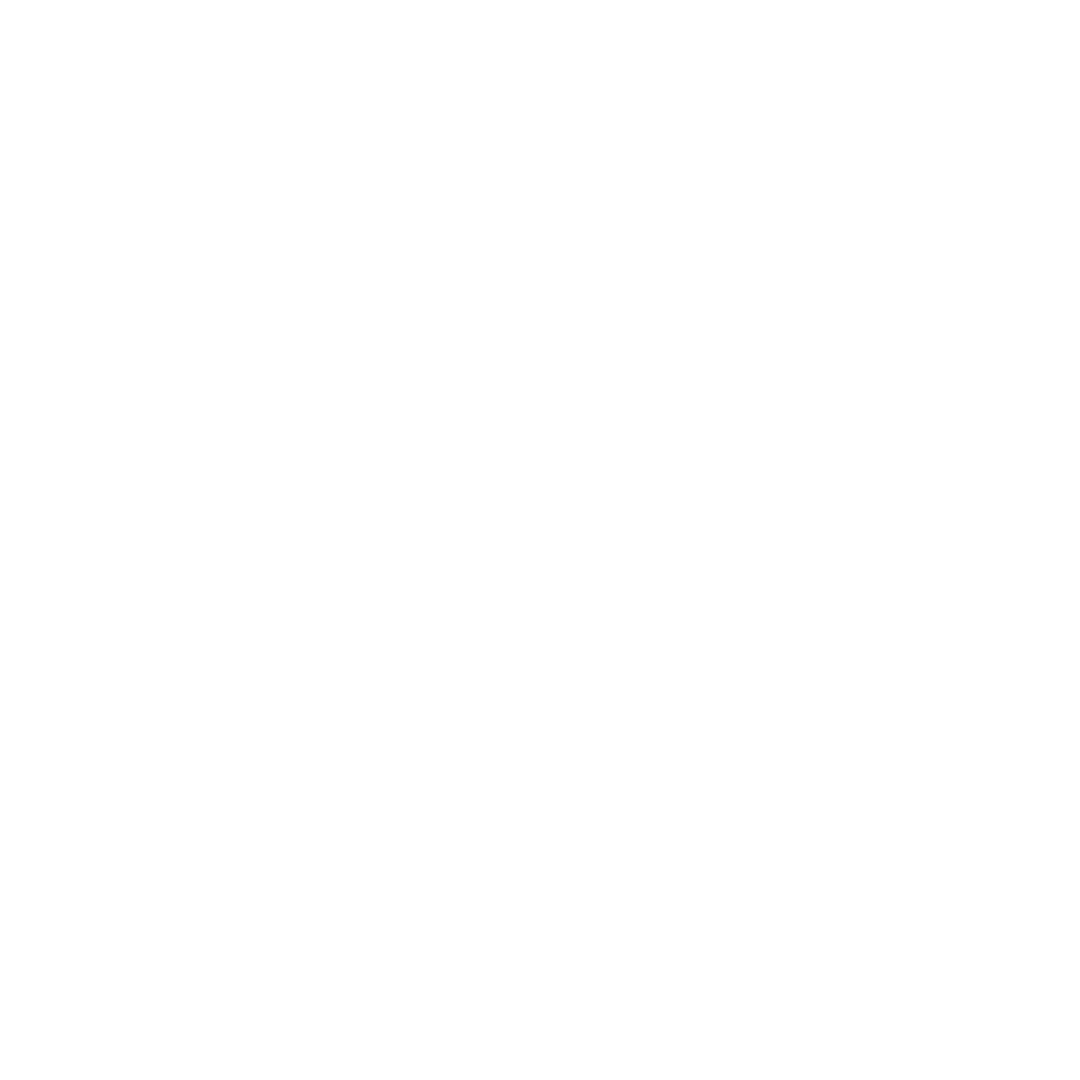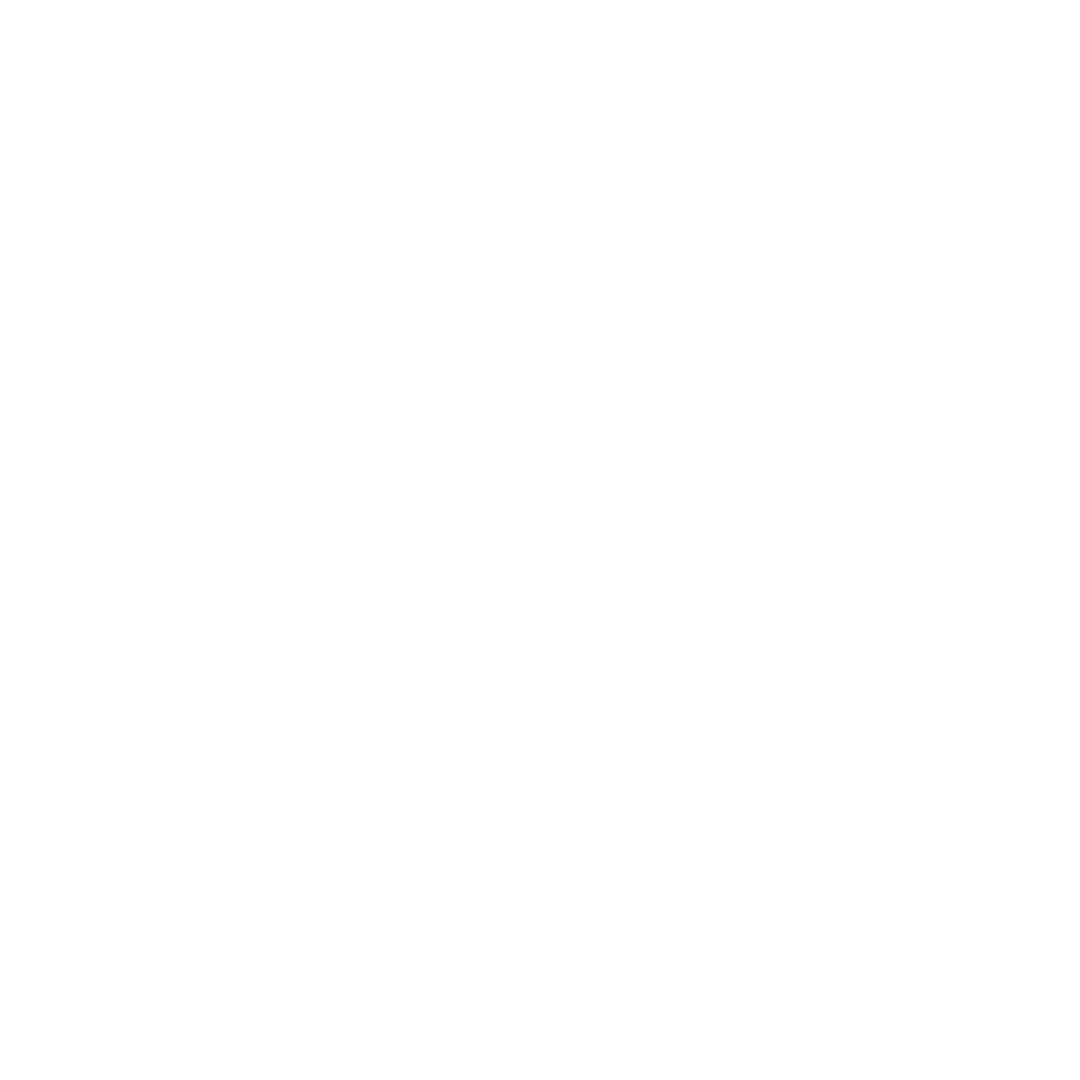Исследовательский центр
«Русское поле»
«Русское поле»
По любым вопросам и предложениям
По вопросам колл-центра
Заказать исследование
«Справедливая зарплата — это оксюморон»: как москвичи определяют достойную оплату труда?
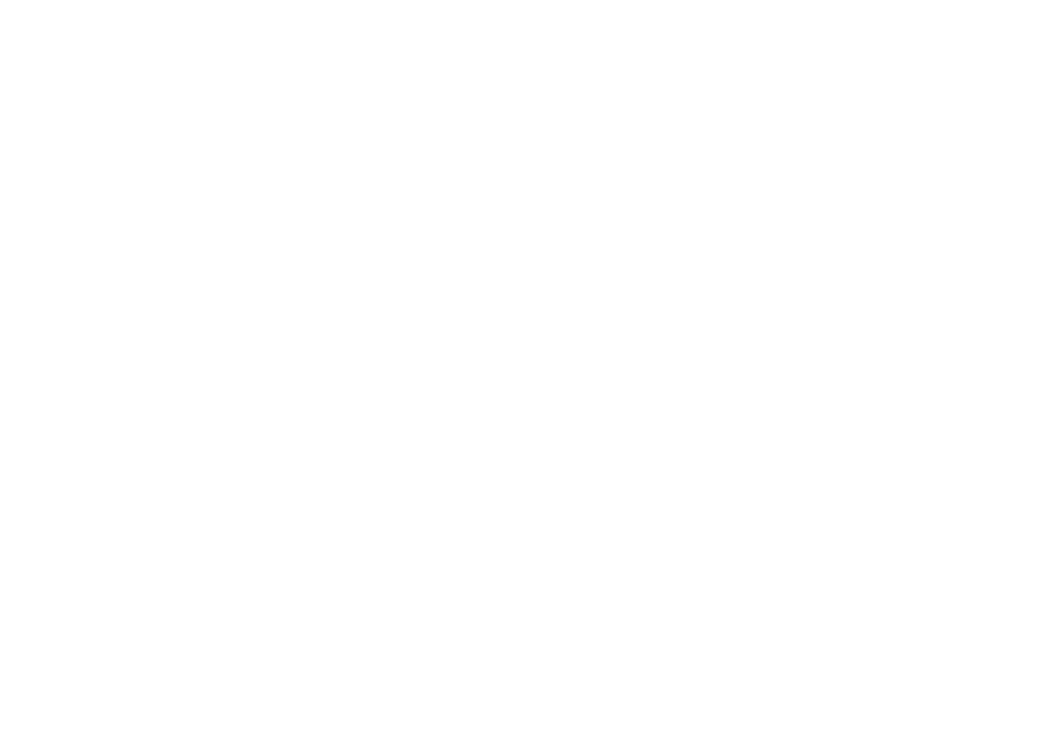
Вопрос справедливой оплаты труда — одна из немногих тем, способных мгновенно разжечь дискуссию в любой аудитории. Наше исследование возникло именно в этой точке напряжения: мы хотели понять, как жители большого города разных возрастов формируют понятие «справедливого» дохода, какие критерии используют при распределении зарплат между профессиями и почему один и тот же труд в глазах людей то ценится, то обесценивается.
Для этого мы провели три игровые фокус-группы в Москве: молодые люди (26–35 лет), средний возраст (36–50 лет) и старший (51–65 лет). В каждой группе было по восемь человек, и работа длилась около двух часов. Участникам выдавали таблицу с фиксированными уровнями зарплат и перечнем профессий. Сначала каждый вписывал профессии в ячейки с «подходящим» уровнем оплаты. Затем участники объединялись по четыре человека и создавали коллективные версии распределений, обсуждая и аргументируя свои решения.
Для этого мы провели три игровые фокус-группы в Москве: молодые люди (26–35 лет), средний возраст (36–50 лет) и старший (51–65 лет). В каждой группе было по восемь человек, и работа длилась около двух часов. Участникам выдавали таблицу с фиксированными уровнями зарплат и перечнем профессий. Сначала каждый вписывал профессии в ячейки с «подходящим» уровнем оплаты. Затем участники объединялись по четыре человека и создавали коллективные версии распределений, обсуждая и аргументируя свои решения.
Игровой формат позволил не только обсуждать конкретные профессии и критерии их оценки, но и исследовать представления о социальной структуре в целом. Через коллективные решения проявляются глубинные ценности и ожидания относительно того, каким должно быть устройство общества. В результате мы получили массив данных, где различия между поколениями проявляются не только в цифрах «народного МРОТа» или списках переоценённых профессий, но и в способе думать о труде и желаемом устройстве общества. Далее мы последовательно разбираем, как эти разные смысловые ядра порождают конкурирующие логики распределения доходов и где удаётся зафиксировать точки консенсуса.
Разные формы оценки значимости труда
Восприятие работы и её значимость заметно различаются у разных возрастных групп.
Молодые люди видят труд не только как способ зарабатывать, но и как средство самовыражения и источник удовольствия.
Средняя возрастная группа акцентирует внимание на стабильности и привычном уровне жизни: работа воспринимается через рыночные и корпоративные категории — обмен времени и усилий на деньги, бонусы, соцпакет, премии, корпоративы. Самореализация и удовольствие уходят на второй план.
Старшие участники рассматривают работу преимущественно как обязанность, сопряженную с усилиями и ограничениями. Работа — это средство закрыть базовые потребности, а не источник радости или признания; акцент смещается на минимизацию страданий и выполнение морального долга.
Молодые люди видят труд не только как способ зарабатывать, но и как средство самовыражения и источник удовольствия.
Средняя возрастная группа акцентирует внимание на стабильности и привычном уровне жизни: работа воспринимается через рыночные и корпоративные категории — обмен времени и усилий на деньги, бонусы, соцпакет, премии, корпоративы. Самореализация и удовольствие уходят на второй план.
Старшие участники рассматривают работу преимущественно как обязанность, сопряженную с усилиями и ограничениями. Работа — это средство закрыть базовые потребности, а не источник радости или признания; акцент смещается на минимизацию страданий и выполнение морального долга.
Критерии оценки
Перед тем как обсуждать конкретные профессии, важно понять, по каким принципам участники измеряли труд. Респонденты возвращались к устойчивым противопоставлениям: рыночная ценность vs. общественная польза, тяжесть vs. сложность работы. Эти дихотомии формируют представления о «справедливой» зарплате и становятся основой для распределения доходов между профессиями, независимо от возраста и личного опыта участников.
Рыночная ценность vs. общественная польза
Зарплата в глазах людей оценивается двумя разными логиками: рыночной ценностью и общественной пользой.
Рыночная ценность: зарплата зависит от того, сколько профессия приносит дохода работодателю и насколько редки навыки. Высокий спрос и редкость повышают оплату (например, IT-разработчики, финансовые аналитики), а избыток работников и низкая маржинальность снижают её. Справедливость здесь измеряется эффективностью и прозрачностью правил рынка.
Общественная польза: труд ценен не деньгами, а вкладом в жизнь общества. Врачи, учителя, спасатели и учёные могут получать больше, чем диктует рынок, поскольку их работа спасает жизни, формирует будущее, обеспечивает безопасность. Справедливость понимается как солидарность и коллективная ответственность, зарплата — знак признания и способ удержать людей в критически важных сферах.
Эти две логики часто противопоставлены: то, что важно для общества, не всегда ценится рынком, и наоборот. При этом профессии вроде министра или депутата чаще оцениваются ниже из-за предрассудков и ассоциаций с коррупцией, даже несмотря на формальную общественную значимость.
Рыночная ценность: зарплата зависит от того, сколько профессия приносит дохода работодателю и насколько редки навыки. Высокий спрос и редкость повышают оплату (например, IT-разработчики, финансовые аналитики), а избыток работников и низкая маржинальность снижают её. Справедливость здесь измеряется эффективностью и прозрачностью правил рынка.
Общественная польза: труд ценен не деньгами, а вкладом в жизнь общества. Врачи, учителя, спасатели и учёные могут получать больше, чем диктует рынок, поскольку их работа спасает жизни, формирует будущее, обеспечивает безопасность. Справедливость понимается как солидарность и коллективная ответственность, зарплата — знак признания и способ удержать людей в критически важных сферах.
Эти две логики часто противопоставлены: то, что важно для общества, не всегда ценится рынком, и наоборот. При этом профессии вроде министра или депутата чаще оцениваются ниже из-за предрассудков и ассоциаций с коррупцией, даже несмотря на формальную общественную значимость.
Тяжесть vs. сложность работы
Другая важная дихотомия в оценке труда — «тяжесть» и «сложность».
Логика тяжести рассматривает зарплату как компенсацию за физические и эмоциональные нагрузки: чем длиннее смена, тяжелее условия и монотоннее работа, тем выше, по мнению сторонников этой модели, оклад. Примеры — курьер, строитель, санитар, где человек «продаёт часы своей жизни» и сталкивается с усталостью, погодой и бытовыми рисками. Деньги здесь вознаграждают прежде всего выносливость и способность терпеть лишения.
Логика сложности, напротив, оценивает труд через редкость навыков и интеллектуальную ценность работы: оплачивается не потливость, а способность решать сложные задачи, требующие длительного обучения и высокой ответственности. Врачи-хирурги, инженеры-ядерщики, дата-аналитики ценятся выше, потому что их компетенции дефицитны, а ошибка может дорого обойтись. Здесь зарплата перестаёт быть компенсацией за страдания и становится платой за уникальные знания и умения.
Логика тяжести рассматривает зарплату как компенсацию за физические и эмоциональные нагрузки: чем длиннее смена, тяжелее условия и монотоннее работа, тем выше, по мнению сторонников этой модели, оклад. Примеры — курьер, строитель, санитар, где человек «продаёт часы своей жизни» и сталкивается с усталостью, погодой и бытовыми рисками. Деньги здесь вознаграждают прежде всего выносливость и способность терпеть лишения.
Логика сложности, напротив, оценивает труд через редкость навыков и интеллектуальную ценность работы: оплачивается не потливость, а способность решать сложные задачи, требующие длительного обучения и высокой ответственности. Врачи-хирурги, инженеры-ядерщики, дата-аналитики ценятся выше, потому что их компетенции дефицитны, а ошибка может дорого обойтись. Здесь зарплата перестаёт быть компенсацией за страдания и становится платой за уникальные знания и умения.
Наложение осей «рыночная ценность / общественная польза» и «сложность / тяжесть» выявляет явные возрастные различия. Молодёжь ориентируется на редкие навыки и рыночные сигналы: пример программиста-самоучки, быстро достигшего высокого дохода благодаря уникальным компетенциям, для них показательнее. Молодые готовы к значительной дифференциации доходов, если видят связь между спросом, ответственностью и пользой труда, при этом сохраняя моральный элемент: базовый комфорт должен быть обеспечен всем.
Старшие видят оправдание высокой оплаты там, где труд тяжёлый и приносит ощутимую пользу обществу, например, курьеры во время локдауна. Они чаще оценивают работу как моральное служение и тяжёлое бремя — отсюда более высокая зарплата курьеру по сравнению с психотерапевтом.
Старшие видят оправдание высокой оплаты там, где труд тяжёлый и приносит ощутимую пользу обществу, например, курьеры во время локдауна. Они чаще оценивают работу как моральное служение и тяжёлое бремя — отсюда более высокая зарплата курьеру по сравнению с психотерапевтом.
Средний возраст меньше ориентируется на тяжесть работы и больше на её сложность и ответственность. Они стараются балансировать между рыночной ценностью и общественной пользой, не отдавая явного преимущества ни одной из сторон.
Выслуга лет
Ещё один важный вопрос касался выслуги лет — основания для различий зарплат внутри одной профессии. Старшие участники считают, что многолетний стаж сам по себе заслуживает увеличенной оплаты: это компенсирует снижение физической выносливости и тревогу перед пенсией. Люди среднего возраста поддерживают надбавку лишь там, где опыт действительно повышает ответственность, например у судей или руководителей проектов. Молодёжь же считает автоматическую прибавку за стаж неэффективной: высокие доходы должны зависеть от компетенций и реальной производительности, а не от количества лет на работе. Так выслуга лет становится линией раскола: моральная компенсация для старших, условная премия за ответственность для среднего возраста и пережиток для молодых.
Оценивание профессий
Участники распределяли профессии по зарплатам по-разному: кто-то начинал с 40-55 тыс. руб., кто-то с 90-100 тыс., а кто-то распределял их равномерно по всему диапазону. Поэтому сравнивать суммы в рублях между участниками было бы бессмысленно.
Мы выделили три условные зоны в рейтинге:
● Самый высокий уровень — верхние позиции, примерно 350-1000 тыс. руб.
● Высокий уровень — 200-350 тыс. руб.
● Средний и низкий — все остальное, ориентировочно 40-150 тыс. руб.
Важно: эти категории не совпадают с привычными представлениями о низком, среднем и высоком доходе, а оцениваются относительно других профессий внутри рейтинга.
На основе всех распределений удалось выделить профессии, по которым существует устойчивый консенсус — большинство участников согласились с их положением в рейтинге. В таблице ниже показано это стабильное распределение.
Мы выделили три условные зоны в рейтинге:
● Самый высокий уровень — верхние позиции, примерно 350-1000 тыс. руб.
● Высокий уровень — 200-350 тыс. руб.
● Средний и низкий — все остальное, ориентировочно 40-150 тыс. руб.
Важно: эти категории не совпадают с привычными представлениями о низком, среднем и высоком доходе, а оцениваются относительно других профессий внутри рейтинга.
На основе всех распределений удалось выделить профессии, по которым существует устойчивый консенсус — большинство участников согласились с их положением в рейтинге. В таблице ниже показано это стабильное распределение.
Участники дифференцировали зарплаты не только по усилиям и квалификации, но и по степени влияния профессии на жизнь общества.
В низкий уровень заработных плат попали профессии, которые кажутся простыми или мало значимыми: не требуют высокой квалификации (продавец-консультант, курьер, разнорабочий, социальный работник), кажутся легкими (например, курьер на автомобиле) или воспринимаются как избыточные, несмотря на квалификацию (дизайнер интерьеров).
Средний уровень объединяет профессии, труд которых требует усилий и квалификации и приносит ощутимую общественную или экономическую пользу. Здесь важна осязаемость работы и её результатов — их легко понять и оценить.
Высокий и самый высокий уровень — более сложная категория. Критерии «тяжесть» и «сложность» здесь уже не работают напрямую. Самые высокие зарплаты участники считали оправданными для профессий, связанных с экзистенциальными задачами общества: врач спасает жизни, военный защищает людей, учёный-физик двигает прогресс. Зарплата здесь воспринимается как способ создать условия для полной концентрации на важнейших задачах.
Чуть ниже — просто высокий уровень. Сюда попадают профессии, значимые для общества, но с более ограниченной зоной влияния, например учитель или инженер. Учитель оценивается высоко за влияние на жизнь конкретных учеников, но не на всё подрастающее поколение, а инженер — за сложность и знания, но без масштабного общественного эффекта.
В низкий уровень заработных плат попали профессии, которые кажутся простыми или мало значимыми: не требуют высокой квалификации (продавец-консультант, курьер, разнорабочий, социальный работник), кажутся легкими (например, курьер на автомобиле) или воспринимаются как избыточные, несмотря на квалификацию (дизайнер интерьеров).
Средний уровень объединяет профессии, труд которых требует усилий и квалификации и приносит ощутимую общественную или экономическую пользу. Здесь важна осязаемость работы и её результатов — их легко понять и оценить.
Высокий и самый высокий уровень — более сложная категория. Критерии «тяжесть» и «сложность» здесь уже не работают напрямую. Самые высокие зарплаты участники считали оправданными для профессий, связанных с экзистенциальными задачами общества: врач спасает жизни, военный защищает людей, учёный-физик двигает прогресс. Зарплата здесь воспринимается как способ создать условия для полной концентрации на важнейших задачах.
Чуть ниже — просто высокий уровень. Сюда попадают профессии, значимые для общества, но с более ограниченной зоной влияния, например учитель или инженер. Учитель оценивается высоко за влияние на жизнь конкретных учеников, но не на всё подрастающее поколение, а инженер — за сложность и знания, но без масштабного общественного эффекта.
Неоднозначные профессии
Несмотря на стабильный костяк профессий с относительно согласованной оценкой зарплат, часть профессий вызывает значительные колебания в мнениях участников.
Яркий пример — министры и депутаты. В целом участники исследования недоверчиво относятся к представителям власти, часто предлагая минимальные зарплаты (35 тыс руб), считая, что чиновники не обладают особыми компетенциями, их труд не тяжёлый и мало заметен в повседневной жизни.
Однако в некоторых обсуждениях звучала альтернативная логика: высокая зарплата для министров и депутатов может снижать коррупционные риски — «лучше платить нормально, чем потом ловить взятки». В рамках этой логики отдельные респонденты готовы были предлагать оклады в 500 тыс и даже 1 млн руб.
Судьи, хотя и близки по статусу к чиновникам, воспринимаются иначе. Их работа очевидно важна, сопряжена с риском и требует честности, поэтому участники считают, что им нужно платить достаточно, сочетая логику «антивзятки» и компенсацию за ответственность.
Яркий пример — министры и депутаты. В целом участники исследования недоверчиво относятся к представителям власти, часто предлагая минимальные зарплаты (35 тыс руб), считая, что чиновники не обладают особыми компетенциями, их труд не тяжёлый и мало заметен в повседневной жизни.
Однако в некоторых обсуждениях звучала альтернативная логика: высокая зарплата для министров и депутатов может снижать коррупционные риски — «лучше платить нормально, чем потом ловить взятки». В рамках этой логики отдельные респонденты готовы были предлагать оклады в 500 тыс и даже 1 млн руб.
Судьи, хотя и близки по статусу к чиновникам, воспринимаются иначе. Их работа очевидно важна, сопряжена с риском и требует честности, поэтому участники считают, что им нужно платить достаточно, сочетая логику «антивзятки» и компенсацию за ответственность.
Другой пример — актёры и публичные медийные фигуры. Их высокий статус часто воспринимается как несоразмерный вкладу, и профессия считается переоцененной. При этом символические или единичные действия, демонстрирующие общественную пользу (выступления перед ранеными, участие в благотворительных акциях), могут повысить восприятие их значимости. В профессиях, где труд менее очевиден, такие публичные действия становятся маркером либо искренней вовлеченности, либо попытки «показать полезность», и оценка может меняться в зависимости от позиции респондента.
Профессия курьера часто воспринимается как переоцененная: она не требует образования или высокой квалификации, но рыночный спрос и популярность создают впечатление, что курьеры зарабатывают как инженеры. Старшие участники видят это как «работу на хайпе», не заслуживающую высокой оплаты. Средние — признают востребованность и тяжесть труда, но сомневаются в соразмерности зарплаты ответственности.
Молодые же участники проявляют больше эмпатии: они видят курьеров как уязвимых работников платформенной экономики, лишенных социальных гарантий и подвергающихся рискам, и считают, что высокая оплата оправдана тяжестью и опасностью профессии.
Молодые же участники проявляют больше эмпатии: они видят курьеров как уязвимых работников платформенной экономики, лишенных социальных гарантий и подвергающихся рискам, и считают, что высокая оплата оправдана тяжестью и опасностью профессии.
Нестабильность оценок часто связана с непониманием сути профессии. Психотерапевты, интернет-маркетологи, дизайнеры интерьеров и другие «креативные» профессии вызывают сомнения: ценность труда сложно увидеть напрямую. Когда эффект работы очевиден (вылеченный пациент, выученный урок, опубликованная статья), согласие по оплате формируется проще.
В одной рабочих групп профессия интернет-маркетолога изначально оценивалась очень низко большинством участников, однако затем в ходе коллективного распределения один из участников, который изначально оценил эту профессию высоко, в ходе обсуждения объяснил остальным участникам содержание и ценность этой профессии, в результате чего в итоговом распределении она оказалась уже гораздо выше. Финальным аргументом в пользу поднятия зарплаты интернет-маркетологу стало то, что от его работы зависит успешность предприятия на рынке и, как следствие, возможность увеличивать зарплаты всех остальных сотрудников.
В одной рабочих групп профессия интернет-маркетолога изначально оценивалась очень низко большинством участников, однако затем в ходе коллективного распределения один из участников, который изначально оценил эту профессию высоко, в ходе обсуждения объяснил остальным участникам содержание и ценность этой профессии, в результате чего в итоговом распределении она оказалась уже гораздо выше. Финальным аргументом в пользу поднятия зарплаты интернет-маркетологу стало то, что от его работы зависит успешность предприятия на рынке и, как следствие, возможность увеличивать зарплаты всех остальных сотрудников.
Так, отсутствие наглядного, коллективно осязаемого или просто понятного всем эффекта может значительно опускать профессию в рейтинге уровней заработных плат. Кроме того, в случае профессии психотерапевта в глазах участников личное благо отдельного клиента не трансформируется в ощущение общественного вложения, поэтому готовность доплачивать за такой невидимый труд в некоторых случаях остается ограниченной.
Во всех возрастных группах профессия ученого выступает маркером оценки нематериального вклада в общество. При этом подход к разным направлениям науки заметно различается.
Старшие респонденты (51–65 лет) оценивают ценность прежде всего через технологический эффект: физик получает высокую зарплату за развитие техники и науки, а филолог — значительно меньше, поскольку гуманитарные науки воспринимаются как «культурное украшение».
У участников среднего возраста (36–50 лет) разрыв между физиками и филологами уже меньше: естественные науки важны, но гуманитарные ценят больше, чем старшие, поэтому филологи попадают в высокий, но не максимальный сегмент доходов.
Молодые участники практически уравнивают разные направления: физик и филолог оцениваются схожим образом и оказываются в верхних строках рейтинга зарплат.
Во всех возрастных группах профессия ученого выступает маркером оценки нематериального вклада в общество. При этом подход к разным направлениям науки заметно различается.
Старшие респонденты (51–65 лет) оценивают ценность прежде всего через технологический эффект: физик получает высокую зарплату за развитие техники и науки, а филолог — значительно меньше, поскольку гуманитарные науки воспринимаются как «культурное украшение».
У участников среднего возраста (36–50 лет) разрыв между физиками и филологами уже меньше: естественные науки важны, но гуманитарные ценят больше, чем старшие, поэтому филологи попадают в высокий, но не максимальный сегмент доходов.
Молодые участники практически уравнивают разные направления: физик и филолог оцениваются схожим образом и оказываются в верхних строках рейтинга зарплат.
Представления о справедливом устройстве общества
Для участников исследования справедливость в зарплатах в первую очередь связана с обеспечением достойной жизни, а не с относительным распределением или равенством. Под «достойной жизнью» понимают возможность отдыхать, путешествовать, заниматься хобби, посещать рестораны — то есть иметь деньги на базовые расходы и «маленькие радости».
Средний возраст чаще акцентирует внимание на соблюдении договоренностей с работодателем: задержка премии или урезанный соцпакет воспринимаются как нарушение контракта. Молодые относятся к таким ситуациям как к особенностям рынка, старшие — как к неизбежному злу.
Средний возраст чаще акцентирует внимание на соблюдении договоренностей с работодателем: задержка премии или урезанный соцпакет воспринимаются как нарушение контракта. Молодые относятся к таким ситуациям как к особенностям рынка, старшие — как к неизбежному злу.
«Народный МРОТ» как ориентир базовых потребностей
Участники исследования прикидывают минимальный доход, исходя не из официальных норм, а из реальных расходов на выживание и жизнь в городе. Так формируется «народный МРОТ» — граница между бедностью и нормой.
Старшее поколение (51–65 лет) оценивает ее как 40–60 тыс. ₽ в месяц — сумма, покрывающая еду, лекарства, транспорт и коммуналку при условии наличия собственного жилья. Всё ниже 40 тыс. ₽ воспринимается как угроза жизни.
Средний возраст (36–50 лет) ориентируется на расходы семьи, включая аренду, детский сад и ипотеку, — их «столичный порог» около 70 тыс. ₽, хотя доход ниже 50–60 тыс. ₽ для многих уже считается бедностью.
Молодые (26–35 лет) рассматривают 70 тыс. ₽ как минимальный комфорт для одиночки, ≈150 тыс. ₽ для семьи со съемным жильем — это уже не про выживание, а про минимальный комфорт, самостоятельность и возможность финансировать хобби.
Старшее поколение (51–65 лет) оценивает ее как 40–60 тыс. ₽ в месяц — сумма, покрывающая еду, лекарства, транспорт и коммуналку при условии наличия собственного жилья. Всё ниже 40 тыс. ₽ воспринимается как угроза жизни.
Средний возраст (36–50 лет) ориентируется на расходы семьи, включая аренду, детский сад и ипотеку, — их «столичный порог» около 70 тыс. ₽, хотя доход ниже 50–60 тыс. ₽ для многих уже считается бедностью.
Молодые (26–35 лет) рассматривают 70 тыс. ₽ как минимальный комфорт для одиночки, ≈150 тыс. ₽ для семьи со съемным жильем — это уже не про выживание, а про минимальный комфорт, самостоятельность и возможность финансировать хобби.
Выводы
Исходя из обсуждений, можно выделить общую идею справедливости и достоинства, разделяемую участниками всех возрастных групп. Независимо от того, как именно распределяются доходы между профессиями, существует консенсус: каждый человек должен иметь возможность обеспечить себе базовый уровень комфорта и удовлетворять фундаментальные потребности. Это проявляется в понимании «народного МРОТ» как минимальной границы, позволяющей выживать, поддерживать семейные обязательства или вести самостоятельную жизнь с возможностью небольших личных радостей.
Таким образом, экономическая и социальная организация общества в глазах респондентов метафорически приближается к модели базового безусловного дохода: даже труд, не требующий высокой квалификации или творческого вклада, должен обеспечивать достойный уровень жизни. При этом дополнительные различия в доходах участников связываются с рыночной ценностью, социальной пользой, тяжестью и сложностью труда, но фундаментальный принцип — гарантированная база для всех — остаётся общим.
Таким образом, экономическая и социальная организация общества в глазах респондентов метафорически приближается к модели базового безусловного дохода: даже труд, не требующий высокой квалификации или творческого вклада, должен обеспечивать достойный уровень жизни. При этом дополнительные различия в доходах участников связываются с рыночной ценностью, социальной пользой, тяжестью и сложностью труда, но фундаментальный принцип — гарантированная база для всех — остаётся общим.
Благодарим всех, кто принимал участие в исследовании, ознакомился с ним и распространил в средствах массовой информации и социальных сетях!
Поддержать нашу работу можно тут